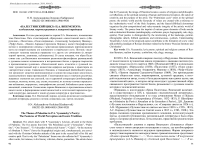"Палестинский цикл" П.А. Вяземского: особенности мировосприятия и жанровой традиции
Автор: Александрова-Осокина Ольга Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается лирика П.А. Вяземского, посвященная теме Палестины. Пять стихотворений, образующих «палестинский цикл» («Иерусалим», «Палестина», «Одно сокровище», «Александру Андреевичу Иванову», «Чуфут-Кале», «Памяти Авраама Сергеевича Норова»), имеют биографические истоки и одновременно связаны с христианско-православным мироощущением поэта во второй половине его жизненного и творческого пути. Поэтому «палестинская» тематика находила отражение и в других его сочинениях (в литературной критике, дневниках, публицистике). В статье показано, что образ Палестины стал для Вяземского источником религиозно-философских размышлений о духовном смысле человеческого и исторического бытия, о природе творчества и предназначении художника. «Палестинский цикл» относится к духовной поэзии: художественный мир и ценностная иерархия выстроены с ориентиром на «авторитетное слово» Священного Писания, а Священный (Библейский) хронотоп организует сюжетно-композиционную и ценностно-смысловую целостность художественного мира произведений. Стихотворения несут отпечаток различных жанровых элементов как светской, так и церковной литературы (автобиография, исповедь, молитва, житие, ода, элегия, послание); их поэтику отличает переплетение пейзажных, портретных, этнографических деталей, библейских цитат и реминисценций, символики. Осмысление лирики Вяземского в предложенном аспекте вносит вклад в формирование новой ценностной и эстетической парадигмы русской литературы, связанной с темой «русская литература и христианство».
П.а. вяземский, лирика, духовно-религиозное содержание русской литературы, реализм в поэзии, символика, ода, элегия, послание
Короткий адрес: https://sciup.org/149127119
IDR: 149127119 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00067
Текст научной статьи "Палестинский цикл" П.А. Вяземского: особенности мировосприятия и жанровой традиции
В 1850 г. П.А. Вяземский совершил поездку в Иерусалим. Впечатления от палестинского путешествия нашли отражение в дневнике писателя (изданном только после его смерти в 1883 г. [Вяземский 1883]) и в нескольких стихотворениях: «Иерусалим» (1850), «Палестина» (1853), «Одно сокровище» (1853), «Александру Андреевичу Иванову» (1858), «Чуфут-Кале» (1867), «Памяти Авраама Сергеевича Норова» (1869). Эти произведения связаны общностью темы, мировоприятия, духовной традиции, к которой подключается автор, и могут быть рассмотрены как единое целое, как «палестинский цикл», в котором автор воссоздает художественный образ священного пространства Святой Земли, размышляет о духовном смысле истории и человеческой жизни.
Обращаясь к воссозданию образа Палестины, Вяземский включается в существующую в XIX в. традицию «паломнической литературы», представленную популярными в те годы сочинениями Мишо и Пужула (Michaud, Poujoulat «Correspondance d’Orient», 1832-1835), P. Шатобриа-на («Itineraire de Paris a Jerusalem et de Jerusalem a Paris»), Д.В. Дашкова («Русские поклонники в Иерусалиме», см. «Северные цветы на 1826 г»), А.Н. Муравьева («Путешествие ко святым местам в 1830 г», СПб., 1832), А.С. Норова («Путешествие по Святой земле в 1835 г», СПб., 1838.). Эта форма соединяла традиции средневекового хождения, интеллектуальной прозы, духовной публицистики, исповедальной литературы и была обращена к историко-религиозным, богословским, нравственно-религиозным проблемам.
«Палестинский» дневник и лирика Вяземского сближаются общностью темы и типом авторского воплощения в тексте, где автобиографизм и исповедальность являются ведущими принципами. Формы авторского присутствия выражаются непосредственно грамматическими средствами: «Я видел древний Иордан <...>/ В его евангельские волны / Я погружался троекратно» («А.А. Иванову»); «Светлый край Палестины! <„.> Яне- сусь на коне /Богомольцем к святыне <„.>» («Палестина»); «Одно сокровище, одну святыню / С благоговением я берегу» («Одно сокровище»); средствами пространственной локализации: «Здесь Гефсиманская долина / Там Елеонская гора» («Иерусалим»); риторическими конструкциями: «Икак забыть тебя, спасения купель, <„.> Вас, Гефсиманский сад и берега Кедрона!» («Памяти Авраама Сергеевича Норова»),
Вместе с тем «палестинская» лирика отличается от дневниковых записей большей степенью духовной цельности авторского взгляда: «ядро лирики < есть > озарение, в котором обретают свои формы и поэтическое сознание, и мир. В этом озарении лирическое “я” открывает себя» [Тюпа 2012, И]. «Палестинские» стихи Вяземского раскрывают духовный опыт встречи человека со Святой Землей, свидетельствуют о глубине духовнорелигиозных исканий поэта, который «не писал стихов “на общие задачи”, отдавал поэзии то, что “на уме и на сердце”» [Перельмутер 1993, 309].
Первым, открывшим «палестинскую страницу» в лирике Вяземского является стихотворение «Иерусалим» [Вяземский 1878-1896, IV, 357], это произведение строится в русле жанровой традиции элегии. Лирический сюжет стихотворения раскрывается на двух содержательных уровнях: на первом - описание панорамы города (экфрасис); второй, содержательный уровень связан с символическим видением судьбы Иерусалима в истории человечества - это город величия и страданий Господа, земное падение которого (Лк. 13, 35; 21, 20-24; Мф. 23, 35-38; Мк. 13, 14) и начало грядущего Небесного Иерусалима (Евр. 12:22; Откр. 21:2) было предсказано в Священном Писании.
Типичные для пейзажа «унылой» или «кладбищенской» элегии мотивы грусти и одиночества («Куда ни обращаешь взоры, /Повсюду грустные места: /Нагая степь, нагие горы /И диких дебрей пустота») в контексте стихотворения обогащаются христианской символикой. Элегия, жанровая сущность которой заключается «в ценностном напряжении <...> между “временами”, состояниями мира, укладами непрерывно текущей жизни: прошлым и настоящим» [Тюпа 2012, 25], как нельзя более подходила для воплощения поэтических раздумий о религиозно-духовном движении истории и о судьбе города-легенды. «И посреди сей мертвой нивы / И скорбью освященных мест /Печально город молчаливый / Стоит - как на кладбище крест» - образы «мертвой нивы», «скорбью освященных мест», «кладбищенского креста» связаны с поэтикой «кладбищенской элегии» и одновременно в библейском понимании «нива, поспевшая к жатве» олицетворяет человека, готового воспринять Евангелие (Ин 4: 35); «жатва» символизирует время всеобщей радости, выступает символом человека (человечества), готового принять Слово Божие (Ин 4: 35-37) [Нива]; перифраз «скорбью освященные места» обозначает события Страстной Недели. Сравнение Иерусалима с кладбищенским крестом усиливает значения «безжизненности», «мертвенности»; и одновременно «крест» - это символ страдания и смерти, но также воскресения, надежды на спасение.
Логика авторской мысли определена пониманием Иерусалима как города грядущего спасения, этим обусловлена и образность третьей, завершающей строфы, связанной с символикой топонимов «Гефсиманская долина» и «Элеонская гора»: «Но эта бедная картина /Превыше кисти и пера: / Здесь Гефсиманская долина, / Там Элеонская гора!». Гефсимания (Гефсиманская долина) - священное для христиан место моления Господа Иисуса Христа в ночь ареста (Мф. 26: 36-57; Мк. 14: 32-53; Лк. 22: 39-53; Ин. 18: 1-13). С Елеонской (Элеонской) горой связано одно из важнейших евангельских событий - проповедь Господа Иисуса Христа о втором пришествии (Матф. 24: 4-14). Гефсимания, таким образом, выступает как символ Божественного сострадания к человеку и жертвенной любви, а Елеонская гора, на которой произнеслись пророческие слова Господа о втором пришествии, как символ надежды и одновременно предостережения заблудившемуся человечеству.
Следующими стихотворениями «палестинского цикла» стали «Палестина» [Вяземский 1878-1896, XI, 43-47] и «Одно сокровище» [Вяземский 1878-1896, XI, 48-51]. Дополняя друг друга, они могут быть рассмотрены как две части одного художественного целого, главной темой которого является автобиографическое повествование о паломничестве в Палестину. Лиро-эпический сюжет и предметно-изобразительная сфера стихотворений направлены на создание образа Палестины как восточного мира (эта часть представлена в описательной манере), а также формируют лирико-философскую линию стихотворений: осмысление религиозно-духовных аспектов человеческого бытия - здесь доминирует медитативное и исповедальное начало. В стихотворении «Палестина» акцент смещен в сторону описательного начала (лейтмотив стихотворения можно было бы определить как «образ Палестины глазами русского паломника»), а в стихотворении «Одно сокровище» преобладает лирико-философское начало, осмысление личного духовного опыта встречи со Святой Землей.
Поэтический образ Палестины в стихотворениях создан в мозаике предметно-изобразительных деталей конкретно-исторического, национального, социально-психологического характера, создающих изобразительно наглядную, реалистическую картину. Создавая пейзаж Палестины, автор обращает внимание на характеристики, не типичные для русского пейзажа. Так, необычно для русского взгляда малое количество воды: «Поток без волн там замер и заглох» («Одно сокровище»); «По степи речки ясной / Не бежит полоса» («Палестина»), Подобные наблюдения сделаны и в «палестинском» дневнике писателя, где писатель замечает: именно в пустынных землях Палестины становится понятно, что вода - это жизненная сила, «Божий дар» и труд древних строителей водохранилищ рассматривается как дело, приравненное к духовному спасению человечества: «Из Соломоновых прудов проведена вода в Иерусалим <...> Все сокровища Соломона погибли, <.. .> но вода Соломона утоляет еще жажду позднейших потомков его» [Вяземский 1883, 73]. Соединение прямого и символического значений в поэтической семантике образа «воды» (жажда физическая и духовная) прослеживается и в стихотворении «Палестина»:
«Путник жадной душою / К хладной влаге приник».
Значимым элементом в создании поэтического пейзажа Палестины является колористика, которая также обнаруживает реальные и символические значения. Поэт обращает внимание на золотистость (солнечность) палестинских ландшафтов. В дневнике он писал, что в Палестине особое золотое сияние солнца, такое, что воздух видится не голубым, а золотым [Вяземский 1883, 61]. В стихотворении «Палестина» об этом сказано так: «Позолотою чудной /Ярко блещущий день», «Полдень жаркий пылает, / Воздух - словно огонь». Символическое значение «золотого» связано с храмовым искусством, где «золото» обозначает Божественное начало. В стихотворении «Одно сокровище» образ сияния связан уже с изображением небес и в своей семантике содержит антитезу земного (как грешного) небесному (как Божественному): «Там на земле как будто казнь лежит / II только небо скорбям непричастно, /Лазурью чудной радостно горит».
Хронотоп «палестинских» стихотворений объединяет настоящее время-пространство и вечное, священное, связанное с библейскими событиями. В настоящем поэт видит картины, словно бы неизменно существующие с библейских времен; сама лексика стихотворений («Израиль», «Божья Сень», «Ревекка») соотносит современность с событиями священной вечности и формирует историко-культурный ландшафт поэтического образа Святой Земли. Художественно-поэтические реконструкции Вяземского воссоздают библейские страницы: «Вот библейского века / Верный сколок: точь-в-точь /Молодая Ревекка, /Вафуилова дочь» («Палестина»), «Евангельские сцены» зарисованы и дневнике: «у источника <...> несколько молодых поселянок в синих своих сарафанах мыли белье свое. Может быть, и Пресвятая Дева тоже мыла тут <...> пеленки Божественного младенца» [Вяземский 1883, 62]. Святая Земля описывается как священный текст, хранящий память о прошедшем и предсказание грядущего: «Эпопеи священной /Древний мир здесь разверст: / Свиток сей неизменный /Начертал божий перст» («Палестина»),
В стихотворении «Одно сокровище» акцент сделан на поэтическом осмыслении личного паломнического опыта. Здесь образ лирического героя раскрывается как образ «православного богомольца». О русских паломниках Вяземский писал в «Письмах русского ветерана»: «Спрашиваю всякого <.. > который, подобно мне, был в Иерусалиме: много ли повстречалось ему истинных паломников, кроме Русских? <...> встречались любознательные или праздные Французы, люди науки, <.. > Вы тут найдете и Англичан туристов <.. > Но только из России, к праздникам Рождества Христова и Пасхи, являются целые толпы богомольцев говеть и причаститься у Гроба Господня» [Вяземский 1878-1896, VI, 288-289]. Лирический герой стихотворения «Одно сокровище» также называет себя «паломник недостойный»; описываются действия традиционной паломнической практики: «средь живого храма, / на Гроб Господень я главу склонил»; «тихою струею Силоама /я грешные глаза свои умыл»; «мне лепту подавать была отрада, / чтоб обо мне молились и они» (о милостыне); «за упокой в земле сырой лежащих /Внес имена на вечную скрижаль».
Палестина оказывается для лирического автобиографического героя средоточием духовных и молитвенных устремлений человека; это земля, дающая душевное успокоение и очищение: «в этот край, отчизну всех скорбящих, /я страждущей души носил печаль». Пребывание в Иерусалиме противопоставлено другим путешествиям: среди «ничтожных» дней жизни это событие является особым, исключительным «великим» днем. По мысли поэта, «святая тень» со стен Иерусалима, коснувшаяся путешественника, меняет всю его жизнь и оказывается смыслом, ценностью и оправданием всей жизни.
В стихотворных посланиях «Александру Андреевичу Иванову» [Вяземский 1878-1896, XII, 284-286] и «Памяти Авраама Сергеевича Норова» [Вяземский 1878-1896, XII, 402-406] «палестинская» тематика получает новый смысловой поворот: раскрывает образ человека-творца, вся жизнь и творчество которого определила встреча с Палестиной. В жанровой форме стихотворений переплетены традиции «оды», «послания», «жития», «биографии», «автобиографии».
Адресат стихотворения «Александру Андреевичу Иванову» - русский живописец, близкий друг Н.В. Гоголя, послуживший прототипом художника в повести «Портрет»; поводом к созданию стихотворения послужила выставка картины «Явление Христа народу» в 1858 г. Три части стихотворения в разных аспектах открывают тему Святой Земли. Первая часть -исповедальный монолог поэта о своем личном опыте паломничества; вторая часть - обращение к художнику, третья - описание (экфрасис) картины «Явление Христа народу». В поэтической исповеди о поклонении на реке Иордан раскрывается христианско-православная составляющая в мировоззрении поэта: он видит жизнь человека строящейся на двух полюсах, «житейском» и «духовном»; человек может оказаться «праздным сосудом» утратив ощущение духовного смысла и цельности: «Во мне паломника уж нет, /Во мне, давно сосуде праздном».
Вторая часть стихотворения «Александру Андреевичу Иванову» развивает идею возможности духовного собирания человека, эта идея связана здесь с темой творчества как служения. Вяземский подчеркивает, что творчество - это труд: «Краснею, глядя на тебя, / Поэт и труженик-художник! <...>! В наш век блестящих скороспелок, <„.> Как добросовестен твой труд!». В стихотворении показано, что критерием истинного творчества и таланта поэт видит духовное начало. Известный факт аскетической жизни А.А. Иванова в стихотворении представлен как единственно возможный для художника путь; творчество поэт уподобляет молитвенному служению, прозрение дается только по духовным усилиям: «В избытке задушевных сил, / Как схимник, жаждущий спасенья, / Свой дух постом уединенья / Ты отрезвил, ты окрилил. / В искусе строго одиноком / Ты прожил долгие года, / И то прозрел, что никогда / Не увидать телесным оком». Уподобляя художника схимнику, «жаждущему спасенья», Вяземский акцентирует еще одну важную идею в понимании творчества: дар, талант дается не для личной славы, но для духовного спасения. Третья часть стихотворения представляет собой описание картины (экфрасис) А.А. Иванова «Явление Христа народу». Вяземский перелагает в поэтическом тексте эпизоды евангельского сюжета крещения Господа Иисуса Христа (Мф. 3; Мк. 1: 1-11; Лк. 3: 2-22; Ин. 1: 29-36), воссоздавая образ Палестины времени евангельских событий.
Адресат стихотворения «Памяти Авраама Сергеевича Норова» А.С. Норов - выдающаяся фигура в культуре первой половины XIX в.: участник Бородинского сражения, министр народного просвещения (в 1853-58 гг); с 1840 г. член Российской Академии и Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (с 1851 г), библиофил, чья библиотека оценивалась специалистами как одна из самых богатых в Европе, талантливый переводчик, писатель. Именно он подготовил первое научное издание «Путешествия» игумена Даниила (1864); Норов предпринял несколько путешествий на Восток и в Святую Землю и создал описания своих путешествий [см.: Никитенко 1887]. Вяземский дает портрет А.С. Норова в ценностных категориях православной антропологии: «он кроткой жизнью жил и умер смертью кроткой», «и жизни благодать, и жизни крест любя»; «он тих и ясен был среди земных тревог», «не знал он темных чувств, ни горечи, ни терний». Эту чистоту души героя своего послания поэт объясняет очищающим воздействием Палестины, которая сформировала и высветлила душу ученого: «Была душа его младенчески чиста, / Но и созрела в нем, как плод благоуханной, / Созревший на бразде Земли Обетованной, /Где <„.> Божья Благодать ложится как роса». Вяземский подчеркивает духовную связь русской православной культуры с Палестиной, которая становится родной через слово Священного Писания: «Сей край он с юных лет заочно возлюбил, /К нему неслись его заветные стремленья / <...> Но глубже верою своей его постиг; / Она была ему вернейшая из книг» [Вяземский 1878-1896, XII, 404, 405].
Палестина в стихотворении описывается как Священная земля, по которой ходил Господь, как книга, на которой паломник читает страницы Библейский истории: «Там краски светлыя евангельской картины / Еще не стерлися под давкою веков, / Там в почву врезан след Божественных шагов, / Там чуешь в воздухе евангельские речи». Определяющая мысль стихотворения состоит в том, что всю деятельность человека определяет духовная вертикаль. Иерусалим - есть самое высшее звено в иерархии духовных ценностей, существующих на Земле: «Кто раз сподобился, О, Иерусалим, /Хоть мимоходом быть причастником твоим, <„.> Тот скажет, что хоть раз вкусил он в жизни сладость». Герои лирических посланий Вяземского - А.А. Иванов, А.С. Норов и сам автобиографический герой «палестинских» стихотворений - это люди, пронесшие в своей жизни тот духовный огонь, который они получили от соприкосновения со Святой Землей: «И как забыть тебя, спасения купель!».
Новое содержание тема Палестины получает в стихотворении «Чуфут-Кале» [Вяземский 1878-1896, XII, 312] - здесь поэт обращается к теме 96
утраченной родины. Импульсом к созданию стихотворения послужила поездка Вяземского с семьей императора Александра II в Крым летом 1867 г, где, по просьбе императрицы Марии Александровны, Вяземский делал поэтические зарисовки («фотографии»): среди них было и стихотворение «Чуфут-Кале». Стихотворение обращено к истории древнего крымского народа - караимов, которая до сегодняшнего дня остается предметом дискуссий: одни концепции связывают народ с тюркскими корнями, другие - с иудейскими [см.: Брокгауз, Ефрон 1903, 66; Герцен, Могаричев 1997]. Вяземский видит караимов как потомков иудеев и посвящает стихотворение их древней столице - Чуфут-Кале как наследнице Палестины. Главной темой стихотворения является духовная и физическая связь народа со своей землей: «изгнанник добровольный», «народ, разрозненный грозою, / Скитальцы по лицу земли!», - пишет о караимах поэт.
Жанровая традиция, которую продолжает поэт в этом стихотворении -элегия. Лирический сюжет стихотворения строится как «сюжет-реконструкция», при котором совмещается прошлое и настоящее, реальное и религиозно-мифологическое. Виды местности Чуфут-Кале и прилегающего к древнему городу кладбища в Иосафатовой долине («Крутизн и голых скал вершины, /Природы дикой красота», «в обломках город тих и пуст») побуждают к лирическим размышлениям о тайнах истории, таинственных судьбах древних народов, о памяти и вечности. В истории народа, по мысли поэта, главное - это связь с памятью предков, с религией, верность слову Священного Писания («верный праотцам своим <„.> благочестивый караим»). Рассматривая караимов как потомков иудеев, Вяземский обращается к Палестине - как к их утраченной родине, предмету благоговейной памяти и поклонения. В стихотворении проводится мысль, что народ связан со своей землей многими невидимыми нитями; будучи лишенным этой земли в силу различных исторических обстоятельств, народ будет искать повторения родных ландшафтов и на чужбине, любить ту землю, где увидит сходство с родными местами: «Крутизн и голых скал вершины, / Природы дикой красота / Напоминали Палестины / Ему священные места, / Здесь он оплаканного края / Подобье милое искал»; «Сюда, изгнанник добровольный, Он свой Израиль перенес». Земля, по мысли поэта, это духовное начало, язык, религиозные традиции, священные книги: «Здесь ветхий голос Моисея /Переходил из чистых уст /В уста преданьем непрерывным», «И чуялось ему: с Синая / Еще Господь благовещал».
Смысл стихотворения, прочитанного в контексте всего «палестинского цикла» Вяземского, перерастает рамки только истории караимов и выходит к осмыслению места Палестины в духовной истории человечества. Святая земля - родина трех авраамических религий, обладает особой духовной сущностью, хранит мистическую связь с Богом и именно в этом качестве является священной и для иудеев, и караимов, и для русского православного человека, и для многих других народов; является предметом духовных устремлений человечества как земля Божественного откровения. В стихотворениях «палестинского» цикла лейтмотивом проходит

мысль о значимости духовной связи человека и земли; образ Палестины, созданный поэтом, - это место, красота которого «превыше кисти и пера» («Иерусалим»), «где душа, как дома зажила» («Одно сокровище»), «святыня, с детства родственная» («Палестина»), к ней человек приходит «святой любви и страха полный» («А.А. Иванову»); в этой земле «Евангелие здесь есть летопись живая» («А.С. Норову»), В «палестинских» стихотворениях Вяземского хронотоп сакрального пространства приобретает личностное начало, события Священной истории открываются в антропоцентрическом измерении, «священное» перестает быть «мифоло гическим», но становится личностным, «настоящим» и актуальным в признаниях автобиографического лирического героя.
Список литературы "Палестинский цикл" П.А. Вяземского: особенности мировосприятия и жанровой традиции
- Бондаренко В.В. Вяземский. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2014.
- Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского: в 12 т. / Изд. Графа С.Д. Шереметева. СПб., 1878-1896.
- Вяземский П.А. Путешествие на Восток (1849-1850). СПб., 1883.
- Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Чуфут-Кале - иудейская крепость // Евреи Крыма: очерки истории / сост. Э. Соломоник. Иерусалим; Симферополь, 1997. С. 23-32.
- Иерусалим // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/m-ierusalim (дата обращения 01.09.2017).
- Моторин А.В. Художественное вероисповедание князя П.А. Вяземского // Христианство и русская литература. Сб. 4. СПб., 2002. С. 209-249.
- Никитенко А.В. Авраамий Сергеевич Норов: биографический очерк. СПб., 1870.
- Перельмутер В.Г. «Звезда разрозненной плеяды!..»: жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его стихах и прозе, а также в записках и письмах его современников и друзей. М., 1993.
- Тюпа В.И. Генеалогия лирических жанров // Известия Южного Федерального университета. Филологические науки. 2012. № 4. С. 8-31.
- Чуфут-Кале // Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андреевского. Т. 39: Чугуев - Шен. СПб., 1903. С. 66.