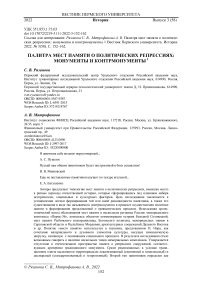Палитра мест памяти о политических репрессиях: монументы и контрмонументы
Автор: Рязанова С.В., Митрофанова А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Постсоветские места памяти
Статья в выпуске: 3 (58), 2022 года.
Бесплатный доступ
Авторы предлагают типологию мест памяти о политических репрессиях, имевших место в разные периоды отечественной истории, которые сформировались под влиянием набора исторических, социальных и культурных факторов. Цель исследования заключается в установлении логики формирования той или иной разновидности памятника, а также его существования в виде так называемого контрмонумента в процессе осуществления политики памяти и формирования представлений о травматическом прошлом. Использован хронотопический метод обследования мест памяти в нескольких регионах России: мемориального комплекса «Пермь-36», комплекса объектов коммеморации острова Большой Соловецкий, мест памяти Рыбинского водохранилища, Бутовского полигона, мемориальных знаков в Саратовской области и Республике Мордовия, архитектурных сооружений Дальнего Востока и др. Понятие «место памяти» используется в значении, предложенном П. Нора, как сочетание материального и духовного элементов культуры, несущее символическую нагрузку, связанную с пониманием социального прошлого. В результате исследования стало возможным говорить о наличии нескольких типов мемориальных комплексов. Утверждается отсутствие в отечественном пространстве памяти о репрессиях сооружений, соответствующих критериям традиционного монумента. Среди реализованных в условно традиционном ключе выделяются территориально локализованный (единичный и комплексный) и дисперсный (стандартизованный и гетерогенный). Второй тип памятников определен как гибридный, включающий в себя народную, альтернативную и палимпсестную разновидности. Народная определяется субъектом конструирования, альтернативная связана со специфической интерпретацией прошлого и может дополняться конструктивными элементами в ходе бытования, палимпсест предполагает явное или скрытое наличие множества символически нагруженных слоев. Особый тип представляют собой контрмонументы, представленные шагающими, ландшафтными, экологическими и исчезающими памятниками. Для данных видов характерен перформативно-партиципаторный характер. Наличие разных типов памятников свидетельствует не столько об отсутствии единой стратегии припоминания в обществе и разных его практиках, сколько о возможности включения в процесс коммеморации различных социальных групп за счет разнородности и полифоничности монументов.
Коллективная память, политические репрессии, монумент, контрмонумент, места памяти, политика памяти, хронотоп, "пермь-36"
Короткий адрес: https://sciup.org/147246433
IDR: 147246433 | УДК: 351.853.1:73.03 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-3-152-162
Текст научной статьи Палитра мест памяти о политических репрессиях: монументы и контрмонументы
Многообразие памятных сооружений неизбежно наталкивает исследователя на вопрос об их форме. В последние десятилетия особенно активная научная дискуссия ведется вокруг памятников, посвященных травматизирующим событиям прошлого, имеющим важное значение для формирования коллективной идентичности2. Начало дискуссии было положено в ходе осмысления новых тенденций в сохранении памяти о Холокосте, появившихся по причине ухода поколения живых свидетелей и начала периода «постпамяти» или «постсвидетельства» [ Хирш , 2021; Popescu , 2015]. Дискуссия актуализировала различие, проведенное Пьером Нора между историей и памятью: история начинается там, где заканчивается живая память свидетелей. В период истории появляются материальные и нематериальные памятники, места памяти, которые служат заменой непосредственной памяти. Характерной особенностью мест памяти является наличие у них трех ипостасей – материальной, функциональной и символической, которые могут быть реализованы в естественных и искусственных объектах: «Места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит - нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естественными» [ Нора , 1999, с. 26]. В границах мест памяти происходит взаимодействие памяти и истории, при этом ключевым является «желание помнить».
В период «постсвидетельства» памятники традиционного типа становятся фактически невидимыми, за исключением периодов актуализации исторической памяти [ Bertens , 2020, p. 182], например, сезонных церемоний возложения венков либо протестных акций.
Начинается поиск новых форм закрепления коллективной памяти о травматизирующих событиях, который ведется в общем контексте развития искусства в конце ХХ – начале ХХI в. В начале 1990-х гг. Джеймс Янг ввел термин «контрмонумент», чтобы обозначить новый тип памятника, посвященного трагическим событиям прошлого. В отличие от традиционного памятника, который выносит коллективную память вовне и фиксирует ее в определенной пространственной точке, контрмонумент, во-первых, постоянно актуализирует память, требуя непрерывного взаимодействия с сообществом людей, для которого он предназначен, и, во-вторых, является нестабильным в пространственном и временном отношении [ Young , 1992].
Содержание понятия «контр-» или «антимонумент» раскрыто в статье Квентина Стивенса, Карен Франк и Рут Фазакерли через пять основных отличий от традиционного памятника: предмет, форму, местонахождение, взаимодействие с посетителями и значение [ Stevens , Franck , Fazakerley , 2018, p. 723]. Предполагается, что на такой характер могут указывать одновременно и по отдельности следующие характеристики: предметом контрмонумента является не прославление героизма, а факты страданий или преследований; форма может характеризоваться абстракцией вместо фигура-тивности, отсутствием вместо присутствия, фрагментарностью вместо целостности и т.д.; местонахождение возможно не в центре общественного пространства, а непосредственно в среде повседневной жизни; посещение предполагает не рассматривание издали, а близкий контакт (иногда – сложную активность), наконец, значение контрмонумента предполагает многообразие интерпретаций, в отличие от четкого сообщения обычного памятника.
Последнее отличие представляется особенно важным. Как пишет М. Хальбвакс, нельзя говорить о наличии унифицированной, универсальной памяти, поскольку «внутри каждого сообщества развиваются оригинальные коллективные памяти, хранящие в течение некоторого времени воспо- минания о событиях, имеющих значение только для них» [Хальбвакс, 2005]. Множественность обеспечивает жизнеспособность памяти, поскольку последняя сохраняет только «то, что еще живет или способно жить в сознании той группы, которая ее поддерживает» [Там же]. Носителем такой памяти, по Хальбваксу, являет ограниченная в пространстве и времени группа. Эта множественность позволяет говорить о наличии множества хронотопов, каждый из которых определен психологией породившей его социальной среды [Там же], а также, по нашему мнению, факторами иного происхождения. Дж. Янг также развивает тему множественности вариаций, в которых реализуется концепция того или иного места памяти [Young, 1992]. Хотя он пишет только об альтернативных памятниках, имеющих материальное воплощение, сама идея контрмонумента легитимирует включение в число знаков памяти явлений, формально с памятью не соотнесенных.
Типология памятных мест продолжает набирать актуальность в качестве исследовательской темы. Однако большая часть публикаций посвящена конкретным типам монументов и не содержит существенных теоретических обобщений. Создается впечатление, что авторы стремятся не столько развивать теорию, сколько как можно быстрее зафиксировать возникающие способы мемориализа-ции травматизирующих событий, наскоро разбросав их по теоретической сетке и определив в качестве «контр-» или «антимонументов». Тем не менее многие публикации содержат как уникальный полевой материал, так и интересные теоретические обобщения. В своем исследовании мы будем опираться на работы Александра Эткинда, Тани Шульт, Катерины Преда, Дианы Попеску, Керри Уигхэма и др.
Мы полагаем, что многочисленность социальных групп, обладающих различными способами увековечивания и припоминания, а также сочетание исторических и географических условий, в которых складывалась традиция памяти, являются основанием для формирования широкого спектра традиционных и нетрадиционных монументов. Целью предлагаемого текста, основанного на этой позиции, является формирование типологии мест памяти о политических репрессиях, имевших место в разные периоды отечественной истории, с установлением логики формирования той или иной разновидности памятника. Это предполагает выявление основных типов существующих памятных мест, связанных с репрессиями, установление специфических черт, связанных с формой памятников, определение места контрмонументов в российском пространстве памяти.
Обследование памятников производилось с использованием хронотопического метода, предполагающего фиксацию специфики локуса, в границах которого формируется и существует место памяти. Хронотопический метод изучения мест памяти, разработанный авторами статьи, предполагает выявление совокупности из нескольких десятков пространственных и темпоральных характеристик мемориального объекта. Учитываются такие пространственные параметры, как режим видимости объекта, привязка к местности, взаимоотношения компонентов и др. В темпоральные характеристики включаются темпоральный и коммеморационный режимы функционирования места памяти, наличие и характер реставрации и т.п. Выявленные особенности позволяют установить, какое значение выражает данный мемориальный объект в условиях современного общества без обращения к дополнительным методам исследования, таким как опрос посетителей или анализ архивных документов об объекте, если указанные методы недоступны (например, если мемориальный объект находится в труднодоступной местности и мало посещается).
В исследование включены мемориальные объекты, находящиеся на территории Российской Федерации и посвященные различным травматизирующим событиям отечественной истории («Большой террор» 1937-1938 гг., раскулачивание, депортация, принудительное переселение и т.п.). Большинство памятников обследовано на местах в ходе экспедиций; использовалась также информация из СМИ и других источников. Исследование носит качественный характер и не предполагает использования количественных методов.
Традиционные памятники: локализованные и дисперсные
Обследование мест памяти показало, что в настоящее время на территории России отсутствуют монументы/мемориальные комплексы, посвященные политическим репрессиям, которые полностью бы соответствовали критериям традиционного памятника, выделенным Стивенсом, Франк и Фазакерли; в частности, ни один известный нам мемориал, не расположен в центре общественных пространств (широкоизвестные Соловецкие камни, будучи помещенными в центр городов, поставлены на обочины площадей). Нормальным месторасположением таких памятников являются кладбища или обочины площадей, также они часто включены в структуру более крупных мемориалов. Многие памятники находятся в труднодоступных или малоизвестных местах, вдоль автодорог, далеко от остановок общественного транспорта и т.д. В то же время с точки зрения формы преобладает тип монументов, который можно хронотопически определить как традиционный, так как они пространственно локализованы в конкретном месте, отличаясь также времен-нóй определенностью. Традиционный тип воплощает в себе то, что приходит на ум при упоминании слова «памятник»: это прежде всего материальный объект в сочетании с устоявшимися способами оформления.
В рамках этого типа можно выделить несколько разновидностей. К первой относятся монументы, представляющие собой территориально локализованный объект, наделенный символической нагрузкой. На территории России сложилось несколько мемориальных комплексов, размещенных в местах непосредственного осуществления репрессий. Пример такого объекта – Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36», расположенный на месте одной из исправительно-трудовых колоний т.н. «Пермского треугольника» в Чусовском районе Пермского края.
По задумке основателей, сделана попытка реконструировать лагерный быт, включающий постройки, относящиеся к двум периодам: существования ГУЛАГа и позднесоветской пенитенциарной системы. Реконструкция включала не только ремонт и восстановление построек (бараки строгого и особого режима, баня, прачечная, пропускной пункт и т.д.), но и воспроизведение интерьера (спальные места, штрафной изолятор, камеры, рабочие места). Информативная часть дополнена и продолжает дополняться материалами постоянной экспозиции и выставок. Хотя мемориальный комплекс состоит из многих элементов, он является внутренне единым за счет сложившейся музейной концепции. Памятник традиционен также благодаря акценту на артефакты, пусть не всегда имеющие прямое отношение к данному месту заключения. Символическая нагрузка памятования здесь не распределяется между множеством объектов, она привязана ко всему мемориальному комплексу в целом.
К монументам такого рода можно отнести кладбища, на которых захоронены репрессированные (мемориал в урочище Сандармох в Карелии, место памяти «Спецобъект Коммунарка» в Москве, урочище «Бутовский полигон» в Подмосковье) и которые, в отличие от многочисленных заброшенных мест захоронения, оформлены в виде мемориальных комплексов. Множественность объектов памятования и почитания здесь имеет материальное основание (захороненные тела) и такие же знаки памяти (надгробия, памятные кресты), но как монумент место захоронения выступает целиком, также приобретая целостность за счет единства времени и места.
Традиционные памятники на местах репрессий могут быть представлены и единым монументом, чья лаконичность объясняется одним или несколькими из набора обстоятельствами. Первое выступает определяющим, если памятный знак/сооружение был поставлен именно как означающий, символизирующий память о нежелательных событиях, которые больше не должны иметь места. В этом случае совпадение места, где события происходили, с символическим напоминанием о них уже не играет роли. Более важным является то, что зафиксирован факт памяти. Такое значение имеют памятные стелы и камни, воздвигаемые потомками пострадавших от репрессивной политики советского государства в большинстве городов (например, монумент памяти репрессированным в Назрани, памятный крест репрессированным грекам в Магадане, памятник интернированным немцам в г. Энгельсе).
Вторым фактором, влияющим на форму и расположение монумента является желание непосредственно отметить место, где осуществлялись травмирующие события. В данном случае это может быть как исторический объект, с которым связаны репрессии, так и новое сооружение (например, «Маска скорби» в г. Магадане, «Стена скорби» в г. Москве).
Иногда выбранный исторический объект не является местом, напрямую соотнесенным с репрессиями. На первый план выходит связь сооружения с прошлым, что позволяет добавлять ему дополнительные смыслы, в данном случае – связанные с травматическими событиями. Так, постоянная экспозиция музея истории политических репрессий в городе Инта (Республика Коми) размещена на двух уровнях водонапорной башни (Музей истории…, 2022). Башня в настоящее время не используется по прямому назначению, поэтому принадлежит прошлому по своему историческому статусу, и это становится основанием для ее соотнесения с современными ей событиями.
Новые строения свидетельствуют о прошлом не менее эффективно. Как правило, в таком случае используются традиционные коммеморационные сооружения (памятные кресты и могиль- ные сооружения на местах массовых захоронений и лагерных пунктов, как это сделано на «Кольце Покаяния» в Республике Коми), либо памятные знаки включаются в структуру действующего здания, часто связанного с религиозным культом. Примером такого памятника является православный храм Воскресения Христова и Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне (построен в середине 2000-х гг.), в цокольном этаже которого открыта экспозиция, включающая найденные во время раскопок вещи расстрелянных. Религиозные сообщества активно участвуют в процессах коммеморации, что подкреплено и традицией связывать погребальный культ с религиозными институтами.
В некоторых случаях традиционный памятник теряет свою локализацию и приобретает дисперсный характер. В данном случае можно выделить два типа монументов. Первый состоит из многочисленных, но стандартизированных элементов, которые устанавливаются по определенной системе и из единого центра. К таким памятникам относится общественная инициатива «Последний адрес», в рамках которой на домах, где жили репрессированные, устанавливаются стандартные памятные таблички. Следует отметить, что аналогичные проекты в Европе часто рассматриваются как пример контрмонументов [ Krzyżanowska , 2016]. Мы тем не менее считаем данный проект традиционным (возможно, гибридным) типом памятника, так как он предполагает четкую пространственно-временную локализацию, а также несет совершенно ясное сообщение, не допуская дополнительных интерпретаций. Второй тип дисперсного монумента представляет собой совокупность разнородных памятных знаков, установленных в разное время разными общественными группами, но на более или менее ограниченном пространстве. Сюда относятся распространенные в местах осуществления репрессий «сады камней». Такие «сады» сформировались, например, на Большом Соловецком острове вокруг памятного креста, в сквере рядом с музеем «Следственная тюрьма НКВД» (Томск), в местах захоронения невостребованного праха на Донском кладбище в Москве. Камни (а иногда - полноценные небольшие памятники) устанавливают, как правило, этнические, профессиональные и иные сообщества.
Гибридные памятники: народные, альтернативные и палимпсестные
К типу гибридного памятника мы относим народные мемориалы, сконструированные по инициативе добровольцев, получившие/не получившие санкцию одобрения со стороны властей уже после создания (к которым типологически близки «сады камней»). В качестве примера можно привести получивший известность как место памяти перевернутый корнями вверх пень в лесном поселке Зубово-Полянского района Республики Мордовия (более подробный анализ памятника см. [ Богатова, Митрофанова, Рязанова , 2022]). С одной стороны, массивный пень мореного дуба дополнен табличкой с надписью «Репрессированным родителям - благодарные потомки». На верхней части установлен макет станкового пулемета. Народный памятник представляет собой способ сообщить потомкам о негативном опыте прошлого через использование природных объектов. Он был установлен спонтанно одним из жителей поселка, а его популяризация как места памяти произошла по инициативе СМИ, а не местных жителей (Деревня..., 2003; Карпов , 2004; Косова , 2012).
Тем не менее памятник выступает как напоминание о раскулачивании и борьбе с дезертирами во время Великой Отечественной войны и даже воспринимается частью общества как символ судеб российского крестьянства. Четкая пространственно-временная локализация данного памятника не позволяет однозначно определить его как контрмонумент. В то же время от традиционных монументов его отличают неофициальный характер, труднодоступность и определенный уровень интерактивности, что и позволило установить на пне игрушечный пулемет.
Гибридными являются также альтернативные памятники, т.е. традиционные по форме, но представляющие идейную альтернативу господствующей версии прошлого. По понятным причинам такие памятники, как и народные мемориалы (с которыми они частично пересекаются), размещаются обычно в труднодоступных, неочевидных местах. Как правило, широкая публика не знает об их существовании. Сюда можно отнести, например, Музей антибольшевистского сопротивления (Московская обл.) и Еланский казачий музейно-мемориальный комплекс, созданные одним и тем же частным лицом. На территории Еланского комплекса установлен вполне традиционный по форме памятник Петру Краснову, повешенному по приговору советского суда за сотрудничество с нацистами. Очевидно, что такой памятник не мог быть установлен в публичном пространстве.
Стивенс, Франк и Фазакерли вводят понятие «диалогического» памятника - когда нестандартный по форме монумент намеренно создается как дополнение к уже существующему обычно- му, но несет противоположное послание [Stevens, Franck, Fazakerley, 2018, p. 720]. Например, в качестве возражения открытию музея «Пермь-36» бывший сотрудник советской пенитенциарной системы Владимир Кургузов создал в своей квартире частный музей колонии номер 35, где жизнь исправительного заведения была показана с точки зрения работников охраны (после смерти основателя музей не функционирует).
Многие памятные места ведут молчаливый диалог сами с собой или своим ближайшим окружением благодаря явлению палимпсестности – проступания одних временных пластов из-под других в фиксированной пространственной точке (палимпсестность ранее рассмотрена авторами в работе [ Митрофанова , Рязанова , Пляйс, 2022]). М. Хальбвакс оговаривает, что «прошлое оставило множество следов в сегодняшнем обществе. Иногда эти следы видны, иногда мы их видим в выражении лиц, в облике помещений и даже в образах мыслей и чувств, бессознательно сохранившихся и воспроизводимых теми или иными людьми в той или иной среде» [ Хальбвакс , 2005]. Следы прошлого, даже если их тщательно искореняют, можно проследить в структуре памятного места. Памятники-палимпсесты можно разделить на два типа. Для первого характерно полное сокрытие всех временных и пространственных слоев, кроме одного – примером может служить Соловецкий монастырь, где уже не осталось физических примет лагеря особого назначения. Палимпсесты второго типа открыты, т.е. у посетителя есть возможность наблюдать взаимодействие разных слоев. В качестве примера можно привести здание музея «Следственная тюрьма НКВД» в Томске.
Некоторые авторы готовы рассматривать в качестве диалогического дополнения даже акты вандализма [ Herscher , 2014]. Хотя вандализм в отношении памятников в России периодически имеет место (например, в декабре 2016 г. на монументе «Маска Скорби» кто-то краской написал «Сталин жив»), подобные действия рассматриваются государством и обществом как недопустимые нарушения общественного порядка.
Перформативно-партиципаторные памятники: шагающие, ландшафтные, экологические, исчезающие
Современные исследователи уделяют особое внимание перформативно-партиципаторному характеру контрмонументов: во-первых, современный памятник не стоит «как монумент», а что-то делает (поворачивается на ветру, уходит под землю, звучит), во-вторых, он активно взаимодействует с людьми, желают они того или нет [ Bertens , 2020; Dembek , 2020; Whigham , 2020]. Александр Эткинд предложил термин «событие памяти» (memory event), которое оказалось плодотворным и было интерпретировано впоследствии множеством разных способов. Под событием памяти подразумевается современная актуализация исторического события в любой форме: дискуссии, ритуала, судебного процесса, сноса или установки памятника и т.д. [ Etkind , 2010]. Рэйчел Перри, например, определяет исторические реконструкции как «живые памятники» [ Perry , 2020]. Российские музеи также предлагают исторические реконструкции и театрализованные экскурсии, посвященные памяти о массовых репрессиях. Катерина Преда пишет о «живых статуях» и различных массовых перформансах как контрмонументах [ Preda , 2022]. Интересная концепция «шагающего памятника» предложена Таней Шульт: человек, идущий по местам травма-тизирущих событий (например, по местности, где располагался концлагерь) и слушающий аудиоэкскурсию, сам превращается в перформативно-партиципаторный памятник, заставляя окружающих актуализировать историческую память [ Schult , 2020; Schult , 2019].
Шульт не концептуализирует роль ландшафта, по которому движется «шагающий памятник». Мы же полагаем, что городской или сельский ландшафт сам по себе можно рассматривать как форму дисперсного контрмонумента. Определяющим условием для этого является большая территория, в границах которой осуществлялись действия травмирующего характера, включающая в себя разнородные объекты. В этом случае исчезает возможность демаркации мемориального и немемориального пространства, они взаимно проникают другу в друга, создавая чересполосицу объектов памятования и бытовых сооружений и предметов. Такого рода дисперсный мемориал сложился на Соловецких островах, где в 1920-1930 гг. размещался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), позднее преобразованный в тюрьму. Обзор карты островов показывает, что размещение лагерных объектов было плотным и отчасти накладывалось на комплекс построек, ранее принадлежавших Православной церкви. Бараки были построены специально, а, например, штрафной изолятор располагался в одном из храмов на Секирной горе – самой высокой точке острова. В настоящее время обозначенные места зафиксированы как обладающие мемориальным зна- чением, при этом их совокупность имеет двойственную природу. С одной стороны, указанные места памяти имеют отношения к практике репрессий и жизни людей в этих условиях. С другой - в настоящее время на территории острова не сложился единый нарратив, повествующий о всей совокупности разрозненных частей мемориала.
То же самое можно сказать о совокупности памятников пострадавшим от репрессий в г. Воркуте. В качестве исторических объектов поддерживаются 38 мест захоронений узников, поставлены также четыре монумента, три из которых посвящены представителям национальных групп, пострадавших от политики советского государства (украинцы, литовцы, немцы), а четвертый представляет собой знак в память обо всех репрессированных. Кроме того, установлены закладной камень и несколько поминальных крестов. Наличие множества памятных знаков обусловлено лагерной историей региона, где местом концентрации заключенных была железная дорога, вокруг которой располагались лагерные пункты с набором сопутствующих строений. Несмотря на множество мемориальных объектов, в настоящее время невозможно говорить о наличии единого, систематизированного мемориального комплекса, что также указывает на дисперсную природу места памяти. Дисперсный памятник связывает воедино только сам посетитель, перемещающийся от одной его структурной единицы к другой.
На Соловках можно увидеть экологический тип контрмонумента - ботанический сад, важным структурным элементом которого является аллея лиственниц, высаженная заключенными (лиственница не является эндемиком для этих мест). Трагические смыслы экомонументов вносятся извне, а не содержатся во внешних характеристиках объекта. Экомонументы могут быть двух типов: созданные человеком (т.е. память воплощается в измененном ландшафте) и естественные (ландшафт демонстрирует те же черты, что и в период травматизирующих событий, тем самым сохраняя память о них).
Первый тип отразился в передвижной выставке «Засушенному – верить» (автор проекта – Надежда Пантюлина), которая демонстрирует, как в ходе деятельности лагерей вырубались деревья, растения переносились из одного региона страны в другой, происходили другие экологические изменения ( Мячина , 2019). Экомонументы второго типа, как правило, не осознаются обществом в качестве памятников.
Исчезающий памятник или призрак как разновидность ландшафтного или экологического монумента, не локализованная ни в пространстве, ни во времени, представлен местами памяти в границах Рыбинского водохранилища. При строительстве ГЭС было затоплено около семисот сел и город Молога, жителей которых принудительно переселили. Когда уровень воды в водохранилище опускается, на поверхности появляются остатки города, которые в такие моменты выступают как мемориальный комплекс, где проводятся памятные мероприятия. В качестве точки постоянного припоминания на месте города установлен символический указатель с надписью «Прости, город Молога» ( Пенькова , 2022). Понятие «призрак» в данном случае не ставит под вопрос реальность существования места памяти; скорее, речь идет о способе его презентации в культуре.
Пустоты и не-места как типы контрмонументов
Проблема мемориальных пустот актуализировалась в связи с глобальным обострением расовой и постколониальной проблематики. С одной стороны, речь идет об отсутствующих памятниках, которые должны были бы находиться в общественном пространстве, но не находятся, с другой – о памятниках, снесенных и оставивших пустые пьедесталы. Учитывая масштабы принудительного труда и недобровольных переселений в 1920-1950-е годы, можно утверждать, что в России почти отсутствуют памятники, музеи или мемориальные знаки, которые напоминали бы, чьими руками создана современная нам материальная среда. Заключенными фактически выстроены город Магадан, а также многие здания Москвы, ставшие ее визитной карточкой. Например, на строительстве дома № 30 по Ленинскому проспекту, который вместе с парным домом 37 образует красивые «ворота города», работал в качестве заключенного советский писатель и диссидент А. Солженицын. Поскольку мемориальные знаки отсутствуют, сами города превращаются в гигантские перформативно-партиципаторные монументы, функционирование которых зависит от подвижности и подготовленности посетителя. Попытку частичной актуализации этого наследия представляет, например, проект «Это прямо здесь»3, предлагающий контрсистему памятных знаков в виде карт и экскурсионных маршрутов, превращающих обычную городскую среду в ситуативный контрмонумент.
Вероятно, самое значимое для темы политических репрессий опустевшее место находится в Москве на Лубянской площади, где до августа 1991 г. возвышался памятник Феликсу Дзержинскому. Рядом расположен диалогический по отношению к отсутствующей статуе памятник жертвам репрессий - Соловецкий камень. Третьим компонентом констелляции памятников является непосредственно фигура Дзержинского, которая сейчас размещена в парке скульптур «Музеон» на значительном расстоянии от прежнего местонахождения. По нашему мнению, три объекта необходимо рассматривать как дисперсный (в пространстве и времени) контрмонумент, который выражает свое значение с помощью активного участия посетителей.
Отдельный тип контрмонумента образуют так называемые не-места. Если место мы определим как локацию, обладающую значением [ Cresswell , 2004, p. 7], то не-место - локация, лишенная значения [ Оже, 2017]. Не-местами можно назвать автострады, стройплощадки, пустыри, стоянки, залы ожидания и т.п. Многие территории, исторически связанные с политическими репрессиями, оказались в категории не-мест, т.е. там нет ни памятных знаков, ни чего-либо значимого вообще. Например, на Большом Соловецком острове сохранилось несколько бывших жилых бараков рабочего поселка лагеря особого назначения, один из которых музеефицирован. При этом центр площади, образованной бараками, представляет собой классическое не-место: огромный для небольшого поселка, немощеный, частично заросший сорной травой пустырь.
Не-местом является также старое кладбище г. Магадана, где захоронены как заключенные, так и вольнонаемные сотрудники треста «Дальстрой». Территория кладбища разрезана автодорогой; одна половина оказалась в промзоне за глухим забором, вторая - заросла непроходимыми сорняками и забросана мусором. Систематическое превращение памятных мест репрессий в не-места предполагает, что последние являются особым типом контрмонумента, в котором меморизация осуществляется за счет демонстративного, подчеркнутого забвения.
Заключение
Предложенный обзор типов памятников, разумеется, не претендует на всеохватность. Множественность актов репрессивной политики в сочетании с гетерогенностью современного российского общества породили и порождают многообразие способов сохранения культурноисторической памяти и передачи ее следующим поколениям. На основании проделанного анализа представляется возможным выделить ряд особенностей, характерных для современного восприятия памятных событий и персонажей. Прежде всего памятники традиционного типа в настоящее время имеют общепринятые формы, воспринимаемые обывателем как привычные, но могут быть дополнены элементами нетрадиционного декора.
В этом отношении они выступают как отсылка к архаическим способам закрепления событий прошлого в культуре, с чем связано использование традиционных материалов и форм (наиболее яркий пример - закладные и памятные камни). Степень локализации монумента в данном случае не является определяющей, важен сам способ закрепления в материальном и символическом пространствах.
Вместе с тем российское социокультурное пространство создает возможности для возникновения непривычных для стороннего наблюдателя форм монументов и связанных с ними практик коммеморации. Большая территория, охваченная репрессиями, в сочетании с незавершенностью официально проводимых процессов восстановления и создания мест памяти, по Нора, приводит к возникновению «вернакулярных», народных монументов, самостоятельно конструируемых заново, либо трансформируемых так, чтобы сооружения профанного характера становились пригодными для припоминания как акта культуры. Они необязательно попадают в русло официальной политики памяти, зачастую конструируя дополнительные смыслы в истолковании прошлого, тем самым заполняя пустоты в топологическом и хронологическом отношении. Особая роль здесь отводится перформативно-партиципаторным памятникам как обладающим дополнительными способностями для реализации (присвоение коммеморативной нагрузки профанному объекту, превращение посетителя как наблюдателя в непосредственного участника коммеморации, акцент на символической, а не на материально-художественной стороне монумента). Все это позволяет говорить о высоком потенциале такого рода мест памяти в дальнейшем формировании отечественного пространства исторической памяти.
Наличие разных типов памятников также свидетельствует не столько об отсутствии единой стратегии припоминания в обществе (что само по себе работает на увеличение многообразия мест памяти), сколько о возможности включения в процесс коммеморации различных социальных групп за счет разнородности и полифоничности монументов.
Список литературы Палитра мест памяти о политических репрессиях: монументы и контрмонументы
- Богатова О.А., Митрофанова А.В., Рязанова С.В. Мордовский поселок как место и сообщество исторической памяти: коллективные нарративы и репрезентации // Финно-угорский мир. 2022. (В печати). EDN: LTRFGM
- Митрофанова А.В., Рязанова С.В., Пляйс Я.А. Место как палимпсест событий и интерпретаций в политике памяти (на примере музея "Следственная тюрьма НКВД") // Изв. Тул. гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2022. № 2. С. 3-16. EDN: JECQDR
- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17-50.
- Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. М.: НЛО, 2017. 136 c. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskayapamyat.html (дата обращения: 17.08.2022).
- Хирш М. Поколение постпамяти. Письмо и визуальная культура после Холокоста. М.: Новое издательство, 2021. 428 с.