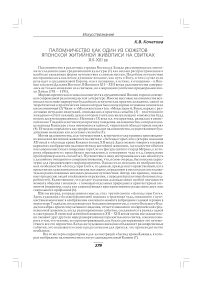Паломничество как один из сюжетов японской житийной живописи на свитках XII-XIII вв
Автор: Кочетова Ксения Викторовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание. Исследования молодых ученых
Статья в выпуске: 6 (26), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14488689
IDR: 14488689
Текст статьи Паломничество как один из сюжетов японской житийной живописи на свитках XII-XIII вв
ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ СЮЖЕТОВ ЯПОНСКОЙ ЖИТИЙНОЙ ЖИВОПИСИ НА СВИТКАХ
XII-XIII вв
Паломничество в различных странах Востока и Запада рассматривалось многими исследователями средневековой культуры (1) как весьма распространенная и наиболее уважаемая форма путешествия к святым местам. Подобное путешествие воспринималось как некое духовное искание, как путь к Богу, в том случае если речь идет о средневековой Европе, или к познанию, к истине, к очищению – в Японии и на всем Дальнем Востоке. В Японии в XII – XIII веках паломничества совершались не только монахами или святыми, но и мирянами (особенно придворными эпохи Хэйан (781 – 1191).
Мировоззренческая основа паломничеств в средневековой Японии хорошо освещена в современной религиоведческой литературе. Многие массовые паломничества возникали на основе маршрутов буддийских аскетических практик хождения, одной из теоретических и практических основ которых было популярное сочинение основателя школы тяньтай (2) Чжии-и «Мохочжигуань» (яп. «Макасикан»). В нем, наряду с различными методами медитаций, описывалась и практика самадхи (3) - «постоянного хождения» ( дзёгё саммай ), целью которой считалась визуализация «множества будд во всех десяти направлениях». Начиная с IX века н.э. эта практика, развилась в японской школе Тэндай в аскетическую практику хождения-паломничества, которая в конце периода Камакура стала именоваться кайхогё , «практикой обхода горных пиков» (4). Ее можно определить как профессиональное паломничество, осуществляемое буддийскими монахами или аскетами- сюгэндзя (5).
Мотив паломничества, или «путешествия», встречается уже в ранних произведениях японской житийной живописи на свитках: «Легенды горы Сиги» (вторая половина XII века) и «Легенды храма Кокава» (конец XII века). Здесь можно говорить о первых вариантах изображения паломничества в житийной живописи, где в качестве объекта поклонения выступает священная гора Сиги и фигура святого старца Мёрэна, к которому обращаются с просьбами о наставлении, о сотворении чуда и т.д. (перед нами яркий пример аскета- сюгэндзя) . Путешествие к нему воспринималось как некий путь к духовному очищению и совершенствованию, что, в свою очередь, было весьма характерно для средневекового мировосприятия. Однако если исходить из изобразительных особенностей «Легенд горы Сиги», то данный, прежде всего нравственный, путь представлен художником как весьма наглядное, переданное в нескольких последовательно расположенных эпизодах реальное путешествие. Автор, как правило, показывает процессию людей в пейзажном окружении, с передачей различных бытовых подробностей. Единственное, что делает художник для выделения особой значимости момента общения с монахом - с помощью отдельных природных и архитектурных элементов (например, скала или хижина) вводит пространственное разделение двух зон: сакральной и профанной (6).
Шагом вперед, в определенном смысле, стал третий свиток «Легенд горы Сиги». Здесь художник с большей фантазией подошел к трактовке чуда, связанного с путешествием монахини: в изображении ключевого момента (обращение главной героини в монастыре Тодайдзи, пользующегося большим авторитетом, к статуе Большого Будды) он избрал прием симультанного видения, отчасти знакомого по европейской средневековой живописи, когда разновременные события, соединяются в рамках одной иллюстрации. В японской житийной живописи XII – XIII веков сцены последовательно сменяют друг друга по мере разворачивания горизонтального свитка, и можно говорить о том, что человек, его просматривающий, как будто сам переживает это путешествие и все его перипетии. Когда же художник внезапно объединяет разновременные события, это оказывается своего рода сигналом для зрителя, что происходит нечто необычное.
Все те же черты характерны и для иллюстраций «Легенд храма Кокава», в которых изображено паломничество к статуе одинадцатиликой Каннон (7).
Вестник МГУКИ. 6 - 2008
Наиболее активно мотив паломничества начинает разрабатываться в XIII веке. Скорее всего это связано с общей тенденцией к усилению религиозных мотивов в японской повествовательной живописи на свитках, когда появляется большое количество сюжетов, связанных с картинами ада («Свиток о голодных духах»), написанных в жанре рокудо-э (живопись Шести Путей, посвященная шести буддийским мирам (8)), и с картинами рая (например, иконография райго – нисхождение с неба Будды Амиды (Будды Западного Рая) и бодхисаттв, дабы взять в райскую обитель того или иного монаха, достигшего просветления).
В первой половине XIII века мотив паломничества в ряде произведений срастается с буддийской космологической схемой. Подобный сюжет встречается в двух из шести свитков «Легенд храма Китано Тэндзин», посвященных путешествию монаха Ни-тидзо в ад, в рай и назад на землю. Таким образом, монах посещает все три мира, отраженных в концепциях буддизма. Три мира (яп. сан кай , кит. сань цзе ) – это одновременно и три времени: прошлое, настоящее и будущее, и три уровня буддийской космографии: «мир желаний» (яп. ёккай , кит. юйцзе , санскр. kamadhatu), «мир плоти» (яп. сикикай , кит. сэцзе , санскр. rupadhatu) и «мир без плоти» (яп. мусики-кай , кит. усэцзе , санскр. arupadhatu). Другой часто встречающийся перевод названий двух последних «миров» — «мир форм» и «мир без форм» (9). Кроме того, три мира могут выступать в качестве описания состояний сознания подвижника, сменяющих друг друга по мере углубления медитативного сосредоточения. В случае с историей монаха Нитидзо мы действительно можем иметь дело с некоей медитативной практикой, представленной как путешествие. Доказательством тому служит кульминационная сцена свитков – встреча монаха в аду с императором Дайго, которой просит Нитидзо вернуться на землю и рассказать при дворе о его мучениях после смерти, которые стали следствием его ошибок при жизни. Таким образом, в ходе своего путешествия монах Нитидзо не только воочию убеждается в существовании буддийских миров, общается с их обитателями (Эмма (владыка преисподней), святые и бодхисаттвы, фантастические создания и т.д.), но и может передать другим людям, как важно следовать Закону Будды.
К произведениям житийной живописи XIII века, в которых отразился мотив паломничества, относятся: «Путешествие святого Нитидзо» (первая половина XIII века), «Легенды школы Кэгон» (первая половина XIII века), посвященные путешествию корейских монахов Гисё и Гэнгё в Китай в поисках истины, «Жизнеописание святого Иппэна» (вторая половина XIII века), «История святого Синрана» и «Биография святого Хонэна» (начало XIV века).
Происхождение паломничеств традиционно связывают с известными религиозными деятелями. Примером тому может служить практика свободного скитания ( югё ) Иппэна, который считал ее наиболее последовательным способом разрыва всех мирских привязанностей. Кроме того, проповедники собирали и сочиняли истории о случаях, подтверждающих силу буддийского учения, которые произошли в Японии. Преимущество подобных рассказов заключалось в том, что они повествовали о местах и людях, расположенных не так далеко в пространстве и времени, что создавало иллюзию достоверности. Одновременно они доказывали, что и Япония — это страна, хранимая буддами (10).
Вместе с тем лишь со второй половины XIII века можно говорить о сложении в произведениях житийной живописи на свитках полноценного мотива паломничества именно как некоего путешествия по святым местам. Как правило, в качестве мест поклонения автор этих произведений избирает знаменитые буддийские и синтоистские храмы, изображает их очень узнаваемыми и указывает их названия, тем самым привязывая место действия тех или иных сюжетов свитка к реальному географическому пространству. Относительно памятников житийной живописи на свитках второй половины XIII века можно смело говорить о том, что художник последовательно проводит персонажей по определенному маршруту, еще, правда, не ставшем окончательной догмой в те времена. В данном случае большую поддержку оказывает организация пространства свитка:
художник активно использует здесь такие приемы, как точка зрения с высоты птичьего полета, уменьшенные фигурки людей, высокая линия горизонта. Все это позволило автору свитка «Жизнеописание святого Иппэна» показать широко развернутое природное пространство, с выделенными в нем местами для поклонения (буддийские и синтоистские храмы).
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что мотив паломничества в японской житийной живописи на свитках XII - XIII веков развивался параллельно сложению главных мировоззренческих основ данного религиозного акта. Одновременно с этим трансформировались и художественные средства, избираемые тем или иным художником, автором иллюстрированных свитков, созданных на основе жития какого-либо прославленного монаха или святого.
Список литературы Паломничество как один из сюжетов японской житийной живописи на свитках XII-XIII вв
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1982. С. 67-68. Т
- Накорчевский А.А. Трансформация буддийских паломничеств в Японии: от аскетических практик к массовому туризму//Первые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Материалы научной конференции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. C. 42-46.
- Стэнли-Бейкер, Дж. Искусство Японии. М., Слово, 2002. С. 102.
- Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 1999. С. 435.
- Walle W. Vande. Japan: from Petit Kingdom to Buddha Land//Japan Review, 1994, № 5. P. 87-101.
- Горбылев. Эволюция представлений о сакральном пространстве в VII-XV вв. «Мандализация» пространства//История и культура Японии. М.: Институт востоковедения РАН -Издательство «Крафт+», 2001. С. 119-139.