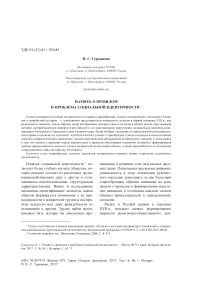Память о прошлом и проблема социальной идентичности
Автор: Гурьянова Наталья Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению исторического сознания старообрядцев. Анализ исторического сочинения «Сказание о миробытной истории…», написанного представителем поморского согласия в первой половине XIX в., дал возможность показать, каким образом автор воспринимал историю своего согласия в общем потоке христианской истории, которая включала мировую и российскую и, по христианскому вероучению, должна была закончиться воцарением Антихриста, Страшным судом и концом мира. Автор отобрал и выстроил в определенной последовательности факты и включил их в контекст эсхатологического учения. Старообрядцы сумели соединить в своем сознании элементы мифологического мышления с весьма прагматичным восприятием исторических событий. Сделан вывод о том, что память о прошлом играла важную роль в процессе обоснования идеологии согласий и формирования чувства принадлежности каждого члена к конкретной религиозной общине, а также враждебности по отношении к окружающему миру как царству Антихриста.
Старообрядцы, согласие, идеология, историческое сознание, память о прошлом, эсхатология, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/147219698
IDR: 147219698 | УДК: 94
Текст научной статьи Память о прошлом и проблема социальной идентичности
Понятие социальной идентичности 1 позволяет более глубоко изучать общество, которое реально состоит из различных групп, взаимодействующих друг с другом и отличающихся идеологическими, структурными характеристиками. Важно и исследование механизма идентификации личности, каким образом формируется понимание о ее принадлежности к конкретной группе и восприятие чуждости или даже враждебности по отношению к другим. Трудно найти источ-никовую базу, которая бы обеспечила про- движение в решении этих актуальных научных задач. Попытаемся продемонстрировать уникальность в этом отношении рукописного наследия, дошедшего до нас благодаря старообрядцам, обратив внимание на роль памяти о прошлом в формировании идеологии движения и осознании каждым членом общины принадлежности к определенному согласию.
Раскол в Русской церкви в середине XVII в. положил начало формированию широкого религиозно-общественного дви-
* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта «Религия и культура как факторы становления и сохранения национальной и региональной идентичности» Комплексной программы СО РАН II. 2 п (№ 0326-2015-0018).
жения, известного под именем старообрядчества. Уже первое поколение противников церковной реформы сформулировало ряд идей, составивших основу идеологии 2 движения в целом и отдельных согласий. Противники церковной реформы, провозгласив себя защитниками старого обряда, традиций Русской церкви, должны были апеллировать к прошлому, попытаться охарактеризовать то, что они защищают. Отстаивая свое право оставаться в оппозиции, они использовали только ту информацию, которая была зафиксирована в письменном виде. Для старообрядцев текст стал основным документальным источником.
В процессе оформления идеологии согласий в этой среде сложилось особое отношение к памяти о прошлом. Исторические факты служили авторам-старообрядцам аргументами, свидетельствующими о справедливости отстаиваемой точки зрения на новшества, внесенные в обряд и богослужебную практику Русской церкви в результате реформы. В прошлом они пытались найти доказательства нарушения патриархом Никоном национальных традиций, а также объяснить незаконность соборного осуждения противников церковной реформы и несправедливость гонений. Каждое согласие предлагало свой вариант, отличающийся, конечно, включением событий из истории собственного согласия, а также расставленными акцентами в христианской и российской истории.
Разумеется, учение о конечных судьбах человека и мира лежало в основе идеологии защитников старого обряда. Н. В. Синицына справедливо отметила, что в старообрядческой эсхатологии идея «Третьего Рима» имела принципиальное значение – «это был и символ величия, благочестия дониконов-ской Руси, и “антихристово вместительство” современности» [1998. С. 313]. Эсхатологические построения дополнялись не только средневековыми концепциями, но и реальными историческими фактами.
В старообрядческой среде создавались сборники, составленные из фрагментов текстов, скопированных из Библии, святоотеческих произведений, исторических, публицистических, художественных сочинений, которые позволяли включить историю согласия в общий поток христианской истории. Основываясь на этих представлениях, авторы-старообрядцы писали собственные произведения. Они сумели соединить в своем сознании элементы мифологического мышления с весьма прагматичным восприятием исторических событий. Ярким примером такого сочетания может служить текст исторического сочинения, написанного в первой половине XIX в., в котором нашло отражение характерное для старообрядцев историческое сознание.
Речь идет о сочинении «Сказание миро-бытной истории, от сотворения мира и до нынешних времен вкратце написанная», которое было введено в научный оборот В. И. Малышевым 3. Во вводной статье исследователь указал на Хронограф в качестве главного источника, а в описании кратко, но очень точно охарактеризовал содержание сочинения: «Старообрядческое сочинение, кратко излагающее отдельные события библейской, византийской и русской истории, историю старообрядчества; заканчивается упоминанием времени Николая I. Состоит из 7 разделов, 60 глав и заключения» [Малышев. 1960. С. 119]. Далее совершенно справедливо отмечено, что оно написано в первую половину царствования Николая I (до 1840-х гг.).
Г. В. Маркелов в своей статье, естественно, упоминает это сочинение, отметив, что в нем продемонстрировано лояльное отношение к властям, особенно к Петру Великому и Александру I. Кроме того, высказано предположение об авторе: «Не исключено, что автором являлся кто-то из местных печорских поморцев… К особенностям текста следует отнести краткое конспективное изложение мировых исторических событий» [2004. С. 147].
Т. Ф. Волкова, характеризуя исторические сочинения в составе Усть-Цилемских рукописных сборников, уделила внимание «Сказанию миробытной истории…», отметив, что оно было особенно популярно на нижней Печоре и дошло в четырех списках: ИРЛИ, У-Ц 66, 69, 70 и собр. Усть-Цилем-ское Новое, № 322. Два последних списка из названных представляют, по определению исследователя, текст краткой редакции, который издан в приложении к статье [Волкова, 2002]. Обе рукописи и сборник У-Ц 66 с текстом «полной» редакции, как установлено Т. Ф. Волковой, написаны И. С. Мяндиным 4. Другой «полный» список представлен в рукописи У-Ц 69. Он и будет в центре нашего внимания. Отметив вслед за Т. Ф. Волковой существование краткой редакции и другого списка с текстом пространной, но не останавливаясь на их характеристике, попытаемся получить представление о том, каким образом автор-старообрядец в библейской, мировой, русской истории отбирал ключевые моменты, которые, по его мнению, являются существенными для понимания исторического процесса.
Содержание «Сказания миробытной истории…» четко структурировано: текст делится на главы, которые объединены в разделы. В заключительной 60-й главе автор дал собственную характеристику содержания каждого раздела. Обращение к этому тексту даст возможность понять авторский замысел и цель, с которой он писал сочинение, какие мысли он пытался внушить читателю. Из заявления по поводу содержания первого раздела проступает основная идея, которую автор иллюстрирует, апеллируя к истории: «В первом означается Адам, первый человек, и его потомков житие, первая злоба, зависть и потом потоп за беззаконие и такоже и му-жие веры ради угодившии Богу» (л. 66).
В этом разделе кратко излагаются события библейской истории. Вернее, это даже не изложение, а их обозначение. В качестве наглядного примера можно обратить внимание на тексты двух глав – «О первых человецех» и «О мужи и жене». Библейские сюжеты в Сказании излагаются лаконично, акцент делается на сути рассказа. При этом они при- обретают ясность, а иногда дополняются некоторыми уточнениями, которые придают им убедительность. В частности, в главе «О первых человецех» о жизни в раю и изгнании рассказано так: «Адам и Евва сотворенные по образу Божию 5 до преступления 6 точию пожиша в раи дванадесять дней, а по изгнании из рая вселишася в землю против самаго рая и питахся трудом…» (л. 5 об. – 6).
Не вдаваясь в подробности библейского рассказа о грехопадении первых людей, неизвестный автор нарушение Адамом и Евой запрета есть плоды с конкретного дерева назвал преступлением, подчеркнув, что они только до этого момента жили в раю. Библейский рассказ дополнен указанием на точное время их пребывания в раю и на то, что после изгнания они жили «против самого рая». По-видимому, автор считал, что для читателя недостаточно изложить суть сюжета о грехопадении первых людей (он с ним знаком), но следует сделать этот рассказ более доступным для восприятия.
В главе «О первых человецех» описанные в Библии события только обозначены, а внесенные от автора уточнения придавали рассказу достоверный характер. Читатель, разумеется, знакомый с текстом Библии, получал дополнительные сведения – о кратком времени пребывания первых людей в раю и о том, где они были поселены после изгнания. В помещенной далее главе «О мужи и жене» автор продолжил тему о первых людях. В ней он коротко, но очень точно пересказал библейский рассказ о сотворении Адама и Евы: «Хотя человека точно Бог от земли сотвори 7, но жену ему от ребра воздвиже 8. Того ради муж и жена еста, яко едина плоть, ибо человек оставляет отца и матерь и прилепляется к жене» (л. 6 об.) 9.
После передачи сути рассказа, автор заканчивает главу неожиданной сентенцией: «Да того ради подобает всякому любити свою жену, яко свое тело» (л. 6 об.). Библия предполагает совсем иное отношение мужа к жене, охарактеризованное в сюжете, пересказанном в предшествующей главе: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою… и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт. III, 16). Автор Сказания сделал иной вывод, который логично вытекал из его интерпретации текста. Он не случайно обратил внимание на факт создания Богом жены из ребра человека, который, как автор Сказания подчеркнул, свидетельствует, что муж и жена есть «яко едина плоть». Он выделил тему отношений мужа и жены в отдельную главу. Содержание Сказания свидетельствует, что она была для него актуальной.
Назначением первого раздела, как автор сформулировал в заключительной главе, было подвести читателя к мысли о том, что за «беззаконие» люди были наказаны потопом. Анализ содержания двух глав позволил продемонстрировать, каким образом автор Сказания знакомил читателей с библейской историей. Подобным образом он поступал не только с текстом книг Ветхого завета, но и Нового, которые он использовал во втором и пятом разделах, дополнив фактами из мировой истории. Не останавливаясь на анализе содержания этих разделов, обратим внимание на то, каким образом их охарактеризовал автор. Эти разделы явно, по его замыслу, должны были подготовить читателя к восприятию шестого и седьмого разделов.
По поводу второго раздела он написал следующее: «Во втором, первии цари и вожди израилевы, которыя за добрыя дела сильни были на врагов, а за злыя казнились. Такоже, коль похвально есть судити правдою и жити по закону Божию, яко и небеса заключают» (л. 66 об.). Как считает автор, в третьем разделе еще более ясно проступает мысль о том, что факты библейской истории и мировой свидетельствуют о необходимости государям «жити по закону Божию»: «В Третьем ясно показует, как, надеясь на Бога, премудростию и целомудрием могли не только погублять врагов, но и царства целыя сохранять и завладеть» (л. 66 об. – 67). В четвертом разделе представлена информация, должная убедить читателя, что вся жизнь людей до рождения Христа «не спасительна есть». В пятом разделе читатель знакомился с рассказами о «рождении Спасителя и о житии его на земли, учение его и апостолов, також и распространение християнства и ца- рей» (л. 67). Охарактеризовав содержание этого раздела, автор подчеркивает его назидательный характер: «Что есть Спаситель и для чего за умножение беззаконий не только Бог казнит, но и целыя царства предает в руце поганыя» (л. 67 – 67 об.).
Действительно, последняя глава пятого раздела «О взятии Царяграда турками» повествует о падении Константинополя. Этот факт уже во вводной фразе интерпретируется автором в качестве наказания за «умножив-шиися в царстве беззакония»: «По многочис-леных царех греческих и по умножившимся в том царстве беззаконий прииде на Царь-град турецкий царь Магомед при Констянти-не царе» (л. 42 об. – 43). Здесь сообщалась только важная для читателя информация, что Константинополь был захвачен турками при царе Константине, который погиб, защищая город: «Убиен бысть во вратех града и тогда вкупе пленися и вера благочестивая» 10 (л. 43).
Следующий раздел посвящен российской истории, и автор представил его так: «В Шестом: Начало Российского государства, князей и царей и что ради мы подвергаемся в руце врагов и для чего бываем не только сильни, но и непреодолимы» (л. 67 об.). Раздел начинается с глав, посвященных описанию процесса христианизации Руси. Автор при изложении событий этого периода, возможно, ориентировался на Повесть временных лет 11. Естественно, что основное внимание было уделено принятию христианства при князе Владимире. Завершает главу «О великом Владимире и о просвещении Ро-сии» утверждение о благочестивости принятого от греков вероучения и исправлении нравов: «И тако бысть оттоле введена бысть вера греческая. С верою вкупе и нрави вар-варстии уничтожишася и воста християнская смиренная о Боге и о правде и братолюбии ревность» (л. 44 – 44 об.).
Далее автор поясняет, какие основные «варварские нравы» были уничтожены: «Вкупе ненавистное и нехристиянское мно-гожение упразднися и единоженное житие введеся и прочии тому подобные обычаи християнства» (л. 44 об.). Совершенно оче- видно, что тема брака была для автора Сказания актуальной, он придавал ей значимость, утверждая, что отмена многоженства означала переход общества к нравственному христианскому житию. В другом случае, когда нужно было объяснить прекращение династии Рюриковичей в России и начале Смуты, он опять сделал акцент на нарушении Иваном IV этого христианского обычая: «Хотя царь Иоанн и благочестив бяше, но женолюбив, коих было до седми. И такаго ради многоженства из кроткаго государя зде-лался грозный мучитель, почему не только неправедно казни верных к царю бояр и святителей, но и сынов своих не пощаде» (л. 45 об. – 46).
Кратко и в очень доходчивой для читателя форме представлено объяснение превращение благочестивого государя в «грозного мучителя». Подобным же образом, не вдаваясь в подробности правления, охарактеризовано царствование его сына: «По Иоанне сын его Феодор, хотя был и кроткий государь, но немощный. Потому что боярин Борис Годунов, видя царево недоумение, положи намерение присвоити престол России в свою пользу, чего и получи не в долгом времени» (л. 46). Этими двумя фразами автор сумел показать суть происходившего в России, сделав акцент на болезненном состоянии Федора, и намекнул на его недостаточные умственные способности. Далее он еще и пояснил, каким образом Борису Годунову удалось «истребить род царский» и утвердить свой род на престоле России. Нужно заметить, что хотя здесь и отсутствует подробное изложение исторических событий, но факты и их интерпретация вполне допустимы даже для профессионального историка того времени. Разумеется, речь идет только об отсылке к реальным событиям.
Как считает автор Сказания, с этого момента и начались беды России. Не случайно следующая глава им названа «О начатии метежа и бед Росии и о самозванце». Не называя точных дат, но следуя хронологии событий, о самозванце рассказано так: «А как народ невзлюби Бориса, то воспользовался такой минутой чернец Гришка Отрепьев, убежа с товарищами в Польшу и именова себя царевичем Димитрием, и взя в помощь войско ис Польши. И прияша его росийский народ за истиннаго царевича и помогоша ему взыти на престол, и Борис с родом бысть истреблен» (л. 47).
В такой «сказовой» манере автор повествует о происходивших во время Смуты событиях: «И по восшествии на престол рост-риги, дана бысть вся власть литве и полякам, и учиниша по своим обычаям. Того ради разуме народ, яко не царь есть Димитрий, но рострига Отрепьев. И совещася между собой с бояры московскими и приидоша к царскому двору и убиша ростригу и выгнали из Москвы всех литовских людей, а царем учинили Василия Шуйскаго, боярина московскаго, и патриарх тогда был Ермоген» (л. 47 об.). Подобным образом описаны последующие события Смуты и избрание на царство Михаила Федоровича Романова.
Воцарение на русском престоле династии Романовых представлено как прямое «указание» от Бога: «Начаша народи пещися о избрании царя… Показа им Бог избрати Михаила Феодоровича от рода бояр Романовых, каковый и нача царствовати благополучно, а отца своего учени патриархом. И при нем много учинися всего достойнаго внимания, которое за нужное щитаю для излишества оставити» (л. 49). Так автор закончил эту главу, чтобы в следующей охарактеризовать процесс избрания духовных властей в России после принятия христианства и подчеркнуть, что при царе Михаиле книги, в которых излагалось православное вероучение «так были усовершены, что сын его Алексей Михайлович уже не имел важнаго труда переправлять книги, а также равно и закон тогда существовал настоящий, християнский» (л. 50 – 50 об.).
Помещенные далее три главы, которыми заканчивается раздел, посвящены отрицательной характеристике других вер, отличных от православия. В отдельной главе осуждается «проклятая магометанская вера». Не остались без внимания автора и христианские конфессии, которые, как он замечает, «хотя и были просвещены апостолами, но после же от еретиков развратились» (л. 52 об.). Заключительная часть фразы явно служила автору своеобразным логичным переходом к теме седьмого раздела, начинающегося с 51-й главы «О последнем времени, како и откуду разврат бысть». В ней четко обозна- чена грань, с которой, как считает автор, наступило антихристово время: «При Алексеи Михайловиче воста некий из меньшаго духовенства поп Никита, которой по глубокому учению и мудрым ответам полюбися царю. Того ради удостоися великому сану патриарха» (л. 52 об.).
В данном случае автор-старообрядец апеллирует к эсхатологическим построениям, в которых правление Алексея Михайловича делится на два периода: до церковной реформы, когда он был благочестив, и после нее. Наступление «последнего времени» в Сказании явно связывается с деятельностью патриарха Никона, который, как считает автор, обманным путем сумел убедить Алексея Михайловича поддержать его: «А как Никон объяви царю о церковном правлении, бутто бы в книгах находятся ошибки, того ради призывает царь на собор святителей. И при осмотре, хотя и оказалось с греческими в малом числе несогласны, но однако же Никон прибавил от себя, чтобы молились двумя перстами…» (л. 52 об. – 53).
Возложив вину за отступление от веры отцов на патриарха Никона, автор обращается к читателю с таким рассуждением: «Ибо, аще бы он, Никон, был как добрый пастырь, то сначала надлежало бы собрать народ и растолковать им о правлении книг, как и какое слово несходно и почему именно. А то, нечего не раскрыв, и давай, служи по-новому, а не покаряющихся давай бить, жегчи, высылать. Сверх того приказал сочинити новыя книги сверх положеннаго…» (л. 53 об. – 54). Глава заканчивается фразой, в которой говорится о судьбе Никона: «И отлучен бысть и от власти отгнан, и сослан в манастырь» (л. 54 об.). Следующая 52-я глава называется «О продолжении злаго времени».
Действительно, уже в первой фразе заявлено, что и без Никона его дело было продолжено: «По Никоне первосвятители москов-стии, хотя Никона не почитали за истиннаго законодавца, но предания его соблюдаху и поныне» (л. 54 об.). Следом автор обратил внимание на то, что светская власть, подражая «первосвятителям», тоже ввела «новины»: «Тому же подражающе и первоначальницы рустии и их подданнии, которыя сверх узаконеннаго еще изложиша новыя правила, новыя законы, которыя заменили переменою модных иностранных обычаев» (л. 54 об. – 55). Совершенно очевидно, что в данном случае осуждаются петровские реформы и последующая европеизация России.
Хотя в следующей главе восхваляется деятельность Петра I, он представлен государем, прекратившим гонения на защитников старого обряда, важно, что информация о его правлении, как и Александра I, к которому проявлено достаточно лояльное отношение, включена в седьмой раздел, посвященный характеристике «последнего времени». История России после церковной реформы воспринималась автором в эсхатологическом ключе, но, по-видимому, существование Вы-говского общежительства, об организации и процветании которого говорится в нескольких главах, обязывало автора Сказания положительно отзываться о конкретных русских государях и достаточно оптимистично смотреть в будущее.
Начав с пересказа библейских исторических книг о сотворении человека, первого периода жизни людей на земле, о нравах и царствах, дополнив сведениями об описываемых событиях из Хронографа и публицистических произведений, автор Сказания пытался внушить читателям мысль о том, что «за умножение беззаконий» Бог наказал сначала людей – потопом, а потом и государства, передав их «в руце поганыя». В шестом разделе этот вывод о неизбежности наказания от Бога при отступлении от его заповедей продемонстрирован на примерах из российской истории, которая оказалась, таким образом, встроенной в поток христианской истории. В последней главе, посвященной царствованию Алексея Михайловича, охарактеризована деятельность патриарха Никона как нарушение православных традиций, «умножение беззаконий».
Церковная реформа, начатая патриархом Никоном, представлена автором в качестве грани, после которой наступило, как считает автор, «последнее время». По христианскому учению это означало воцарение на земле Антихриста, хотя в Сказании он не упомянут ни разу. Автор предпочитал называть это время «последним», «злым», но читатель явно был сориентирован на восприятие описываемых событий в контексте эсхатологического учения. Главы, посвященные изложению истории Выга и проблеме, «како и где по-знати истинную Христову веру», явно были включены с целью объяснить, почему «конец мира» не наступил, и Россия продолжила свое историческое существование, «хотя от истинны отступила».
Автору удалось представить историю России как часть христианской истории. Пересказ библейских сюжетов сочетался с изложением реальных исторических событий, в которых автор усматривал провиденциальный смысл и делал дидактический вывод для читателя. Как и предполагало христианское вероучение, автор Сказания завершает сочинение описанием «последнего времени», которое, по его мнению, началось с проведения в России церковной реформы. Он явно рассчитывал на знакомство читателей с эсхатологическими построениями авторов-старообрядцев, которые объявляли Россию местом воцарения Антихриста, а переживаемые времена – «последними» перед концом мира.
В Сказании просматривается желание автора убедить читателя, что Россия в эти «злые» времена сохранена как государство только благодаря защитникам старого обряда, которым покровительствует верховная власть. Этим следует объяснить высказанное лояльное отношение к русским императорам, хотя их правление характеризуется в разделе, посвященном описанию «последнего времени». В открывающей раздел главе деятельность светских властей уподоблена поведению духовных лиц, продолживших дело патриарха Никона.
В Сказании факты библейской, мировой и русской истории отобраны и выстроены в определенной последовательности, расставлены акценты, сделаны нужные для автора выводы, которые призваны были убедить читателя в том, что спастись в переживаемые человечеством «последние» антихристовы времена можно, только исповедуя истинную веру. Разумеется, таковой провозглашалось учение, сохраненное защитниками старого обряда, а во время написания сочинения последним оплотом, с точки зрения автора, являлось поморское согласие.
Таким образом, анализ текста Сказания, свидетельствует о важной роли для автора памяти о прошлом при написании сочинения. Она использовалась им с целью вну- шить читателю мысль о том, что противники церковной реформы, сохранив веру предков, спасли Россию и человечество от предсказанного, согласно христианскому эсхатологическому учению конца мира. Существование поморского согласия с центром – Выговским общежительством, интерпретировалось автором как последняя надежда человечества. По этому поводу в 60-й главе, характеризуя содержание раздела, он написал: «И потому и Росия, хотя от истинны оступила, но яко-же искра в пепле еще остается тлеть дотоле, пока не угаснет» (л. 68). Разумеется, подобные сочинения рассчитаны были на то, чтобы убедить членов общины в ее значимости в контексте христианской и русской истории, в истинности проповедуемого учения. Они играли большую роль в процессе обоснования идеологии согласия и формирования чувства принадлежности к конкретной религиозной общине и враждебности по отношении к окружающему миру как царству Антихриста.
Список литературы Память о прошлом и проблема социальной идентичности
- Волкова Т. Ф. Историческая литература в составе Усть-Цилемских рукописных сборников: к характеристике исторического сознания печорских крестьян-старообрядцев // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2002. Вып. 8. С. 184-199.
- Волкова Т. Ф. Итоги изучения рукописного наследия Ивана Степановича Мяндина (2010-2015 гг.) // Третьи Мяндинские чтения: Сб. науч. тр. по материалам Всерос. науч. конф. (8-9 июля 2015 г., Сыктывкар). Сыктывкар, 2016. С. 10-17.
- Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. 557 с.
- Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI-XX вв. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1960. 215 с.
- Маркелов Г. В. Памятники старообрядческой историографии в фондах Древлехранилища Пушкинского Дома // Труды отдела древнерусской литературы. СПб., 2004. Т. 55. С. 146-152.
- Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. 118 с.
- Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.) М.: Индрик, 1998. 416 с.
- Список источников Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 г. // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 7. С. 26-71.
- Повесть о минувших годах черноризца Феодосьева монастыря Печерского. Откуда пошла русская земля… // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. С. 62-315.