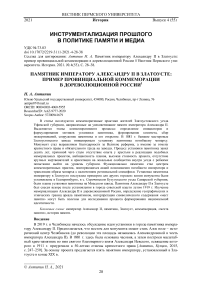Памятник императору Александру II в Златоусте: пример провинциальной коммеморации в дореволюционной России
Автор: Антипин Н.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Инструментализация прошлого в политике памяти и медиа
Статья в выпуске: 4 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются коммеморативные практики жителей Златоустовского уезда Уфимской губернии, направленные на увековечивание памяти императора Александра II. Выделяются этапы коммеморативного процесса: определение инициаторов и формулирование мотивов установки памятника, формирование комитета, сбор пожертвований, сооружение памятника и его открытие. В 1881 г. бывшие мастеровые Златоустовского завода инициировали установку памятника погибшему монарху. Монумент стал выражением благодарности за Великие реформы, а именно за отмену крепостного права и обязательного труда на заводах. Процесс установки памятника занял десять лет, причиной чего стало отсутствие опыта у крестьян в реализации подобных мемориальных проектов, амбициозность планов, высокая стоимость проекта, отсутствие крупных жертвователей и ориентация на локальные сообщества внутри уезда с робкими попытками выйти на уровень губернии. Функционально памятник стал центром коммеморативных практик, повторяющихся акций поминовения погибшего императора и трансляции образа монарха с включением региональной специфики. Установка памятника императору в Златоусте послужила примером для других городов: копии монумента были установлены в Екатеринбурге, в с. Сорочинском Бузулукского уезда Самарской губернии, были планы установки памятника на Миасском заводе. Памятник Александру II в Златоусте был снесен вскоре после установления в городе советской власти летом 1919 г. Изучение мемориализации Александра II в дореволюционной России, определение географических и этнических границ ареала памятников, интерпретация символического содержания «мест памяти» могут быть полезны для исследования процесса формирования национальной идентичности.
Император александр ii, памятник, златоуст, коммеморация, "места памяти", история памяти
Короткий адрес: https://sciup.org/147246393
IDR: 147246393 | УДК: 94:73.03 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-4-28-38
Текст научной статьи Памятник императору Александру II в Златоусте: пример провинциальной коммеморации в дореволюционной России
В 2019 г. в Челябинске началось обсуждение идеи установки в городе памятника императору Александру II. Предполагается, что местом для монумента может стать Алое поле – исторический центр Челябинска (до революции эта площадь называлась Александровской в честь императора Александра II). В 1881 г. здесь была основана часовня, а затем построен масштабный храм-памятник во имя святого благоверного князя Александра Невского, освящение которого в 1911 г. приурочили к 50-летию отмены крепостного права [ Антипин , Купцов , 2015, с. 247–259]. За основу проекта предлагается взять памятник императору, установленный в Златоусте в конце XIX в.
До 1917 г. мемориализация императора Александра II в России представляла масштабный и уникальный процесс. Этому монарху было посвящено больше памятников, чем другим самодержцам: в годы царствования – 30 (преимущественно часовни), после гибели до 1911 г. – 69, а в 1911 г. и до 1917 г. – открыто около трех тысяч (ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 175. Л. 113–125 об.). Как видно, создание «мест памяти», связанных с императором, происходило как при его жизни, так и после смерти. Активизация мемориальных практик наблюдалась в период после его трагической гибели, а затем в юбилейные годы, особенный размах установка памятников приобрела в 1911 г. в связи с 50-летием отмены крепостного права. В историографии исследование этого вопроса пока не получило всестороннего освещения [ Сокол , 2007; Приходько , Окунцов , 2013; Ситдиков , 2014; Фролова , 2017; Новиков , 2019; Антипин , 2020].
Златоуст не остался в стороне от описанного мемориального процесса. Здесь еще при жизни монарха в 1866 г. была построена и освящена на вершине горы Амбарной часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского в память о спасении от покушения на жизнь императора 4 апреля 1866 г. После гибели императора была инициирована установка памятника, а в 1903 г. недалеко от него построена часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского в память об Александре II (АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 421. Л. 36–36 об., 41; Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1135. Л. 480–481). При этом Златоуст в увековечивании памяти монарха опередил другие крупные центры: например, в Екатеринбурге памятник был установлен в 1906 г. (копия златоустовского), в Перми обсуждение вопроса об установке памятника началось в 1908 г., а Оренбурге – в 1911 г., но, по-видимому, в этих городах памятники так и не появились (ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 383. Л. 1–2, 6–6 об.; ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 175. Л. 2–2 об., 8).
Подобная плотность «мест памяти» в Златоусте, возможно, объясняется особым значением фигуры императора для жителей города: в 1837 г. цесаревич Александр Николаевич посетил Златоустовский завод, осматривал окрестности и общался с мастеровыми (Император Александр II…, 2019, с. 90–105). Этот визит оставил след в памяти заводчан и мог служить одним из мотивов увековечивания памяти монарха. В связи с этим интересно рассмотреть вопрос строительства памятника императору Александру II, выявить мотивы его установки и смысловое содержание «места памяти», коммеморативные практики [ Зерубавель , 2004].
Инициаторы, мотивы и коммеморация
Александр II скончался 1 марта 1881 г., и на следующий день это стало известно в Уфимской губернии, а 5 марта повсеместно в губернии прошли панихиды, состоялось принесение присяги новому монарху и его наследнику (АЗГО. Ф. И-67. Оп. 1. Д. 3158. Л. 3). 1 апреля того же года прошло собрание «свободных сельских обывателей города Златоуста» (крестьян), которые приняли решение об увековечивании памяти Александра II (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 11–14 об.).
Почему лишь месяц спустя после гибели императора состоялось это собрание? По-видимому, предполагая подобные вопросы, собравшиеся в первых строках своего приговора ответили: «…лишь только теперь несколько опамятовавшиеся от столь тяжкого для нас горя…». При этом из документа видно, что вопрос увековечивания обсуждался и ранее на сходе 29 марта, а затем было организовано собрание 1 апреля, которое должно было официально оформить инициативу, определить план действий и получить поддержку местных властей. Поэтому в сходе участвовали сельские старосты, волостной старшина и приглашенный непременный член Златоустовского уездного по крестьянским делам присутствия, который должен был «исходатайствовать, где следует, разрешения».
Инициаторами выступили «грамотные и неграмотные свободные сельские обыватели города Златоуста», т.е. бывшие мастеровые и работные люди, получившие «права состояния свободных сельских обывателей» и освобожденные от обязательного труда на заводах, ставшие теперь крестьянами.
Акцент на слове «свободные», выраженный в приговоре, неслучаен и свидетельствует о том, что образ «царя-освободителя» уже сформирован и прочно укоренился в их среде. Например, в характеристике покойного монарха: «…разорвавшего вековые узы, давшего и нам, наравне с собой, свободу – сняв с нас оковы рабства», в наименовании его «царем-освободителем», «уравнителем человеческих прав», «царем народным», «великим вождем нашим, всю жизнь ведшим нас и народ свой к величию и благу», «человеком, даровавшем ду- шу более 20 мил[лионам], которые до вступления на царствование его, отца нашего, века пробыли в оковах, служа одним лишь бездушным, бессловесным, не имевшим личной воли материалом, рабочею силою своих владык». Кроме отмены крепостного права, бывшие мастеровые упомянули и другие преобразования Александра II: введение гласного суда, самоуправления, наделение гражданскими правами и «разными льготами».
Таким образом, главный мотив – это выражение благодарности за дарование личной свободы, за отмену крепостного права и обязательного труда на заводах. Об этом говорит представление крестьян о будущем памятнике: в правой руке монарх должен был держать манифест 19 февраля 1861 г. Как писал П. Нора, «места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит – нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи…» [ Нора , 1999, с. 26]. Сход стремился передать благодарность и чувство уважения к монарху, «чтобы память о благодетеле и великомученике, царе-освободителе, императоре Александре II шла из рода в род, из века в век до последнего дня мира сего». По-видимому, подобная благодарность была характерна для среды мастеровых, например, крестьянин Мраморского завода Пермской губернии И. В. Пер-микин в 1886 г. писал, мотивируя свое желание принять участие в строительстве памятника Александру II в Самаре: «К тому же сочувствуя такому народному антузиазму, как бывший отпущенник из мастеровых царя-освободителя» (ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 651. Л. 77 об.).
Интересно и рассуждение крестьян о том, что будущий памятник должен был стать объединяющим для представителей разных конфессий и национальностей, поэтому они отказались от одной из идей, по-видимому, обсуждавшихся в их среде, о строительстве храма-памятника, что было бы традиционной формой увековечивания памяти. Однако «свободные сельские обыватели города Златоуста» продемонстрировали стремление к новым формам, оказались в русле модернизационной политики погибшего монарха. В приговоре отмечается: «С постройкой храма нераздельно связана невозможность всем участвовать в таковой, ибо в среде нашей и в Златоустовском уезде есть старообрядцы, разные сектанты и инородцы, которые при всем желании почтить память убиенного царя-государя, императора Александра II, и для них сделавшего бездну благодеяний, в силу религиозных убеждений будут поставлены в невозможность выполнить своего желания и должны остаться безучастными, потому что на постройку храма не пожертвуют свою посильную лепту». Памятник предполагался народным, т.е. построенным на пожертвования, а потому крестьяне рассчитывали на вклад всего населения уезда и поэтому стремились устранить препятствия к этому.
При этом в Златоусте была альтернативная позиция, высказанная купцами и мещанами. 23 апреля 1881 г. городская управа обратилась в главную контору Златоустовских заводов с просьбой предоставить место, принадлежащее Горному ведомству, около Гостиного двора и Базарной площади под строительство Александро-Невской церкви в память об Александре II. Управа пожертвовала две тысячи рублей, свои пожертвования сделали купцы и мещане. Это предложение нашло поддержку у руководства завода и уфимского губернатора (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 1–1 об., 2, 7), однако оно не получило развития и не было реализовано, по-видимому, городские жители (купечество, мещане, чиновники) присоединились к инициативе крестьян.
В приговоре 1 апреля 1881 г. была выражена еще одна форма признания ценности свободы – это добровольность пожертвований. Сход отметил, что мог бы с помощью принуждения мирским приговором обязать всех внести свой вклад в сооружение памятника, но не сделал этого, объясняя это тем, что «каждый из нас по своим силам внесет свою посильную лепту».
Важным фактором в коммеморативном процессе было и то, что крестьяне помнили о посещении цесаревичем Александром Николаевичем в 1837 г. Златоустовского завода и его окрестностей. Этот визит произошел 44 года назад, а потому очевидцев события оставалось немного, но, по-видимому, в коллективной памяти жителей Златоуста эта история оставила глубокий след. Она создала непосредственную связь локального сообщества с императором, что и подтолкнуло их к идее построить постамент памятника из камня, добытого на Александровской сопке, «буде возможно его снять, на котором усопший император, бывши юным наследником, восседал в бытность свою в Златоустовском заводе 11 июня 1837 г., о каковом событии свидетельствует имеющаяся на камне надпись».
Бывшие мастеровые на своем собрании, возможно, при помощи непременного члена Златоустовского уездного по крестьянским делам присутствия В. Катанского определили план увековечивания памяти монарха: 1) воздвигнуть «народный памятник» на центральной площади Златоуста; 2) открыть сбор пожертвований по добровольной подписке; 3) организовать комиссию для сбора пожертвований; 4) обратиться к В. Катанскому с просьбой организовать подписку «во всех ведомствах, учреждениях и волостях Златоустовского уезда»; 5) на месте будущего монумента установить столб с кружкой для пожертвований; 6) начать строительство памятника, когда будет собрана необходимая сумма.
В плане крестьян был и один фантастический пункт – получение земли с места гибели Александра II. Сход вряд ли представлял, где и как это произошло, между тем набережная Екатерининского канала в Санкт-Петербурге была покрыта мостовой, а потому логично было просить камень с места покушения. Интересно, что предполагалось изготовить ковчег, в который планировали поместить «хотя щепоть той священной земли», объединив ее с землей с Александровской сопки: «Мы будем иметь неоцененную драгоценность и, храня ее вечно, передавать из рода в род, соединив воедино, помнить о живом и убиенном нашем царе». Этот ковчег предполагалось хранить в «пещере», устроенной в основании памятника, и выносить его ежегодно в годовщину гибели монарха 1 марта для служения панихиды. Идея не нашла продолжения, но свидетельствует о сформированности у крестьян представления о комплексе мемориальных практик, направленных на увековечивание и поддержание памяти об Александре II в Златоусте. Это же свидетельствует и о соседстве модернизированных представлений о формах коммемора-ции с традиционными формами, основанными на христианской религиозности: обожествление мученичества, создание объекта почитания, совершение повторяющихся богослужений.
В приговоре было определено примерное «техническое задание» для будущего памятника: «В основание положить камень с вершины Урала “Сопки”, в котором высечь вид пещеры, на камень постановить чугунную колону (пьедестал), настолько высокую, насколько позволят средства, на колонну водрузить чугунную бронзированную статую, изображающую государя императора Александра II во весь рост, держащего в правой руке манифест об освобождении нас, крестьян. Кругом памятника устроить фонтаны и все обнести чугунною решеткою». Конечно, этот проект был далек от реальности, и его пришлось изменить.
-
В. Катанский исполнил возложенные на него обязанности. 11 мая 1881 г. он обратился к начальнику Златоустовского горного округа В. П. Протасову с пространным письмом, в котором изложил решение схода и план. Он просил ходатайствовать о выделении места на городской площади для установки памятника и организации парка. Однако в этом письме появились некоторые детали, отсутствующие в приговоре: так, оставшиеся средства от сбора пожертвований на памятник должны были пойти на вклад в государственные бумаги, доход от них предполагалось направить на открытие и содержание сиротского воспитательного дома с родильным отделением. Этот вопрос возник позднее, и в одном из писем с предложением о сборе пожертвований В. Катанский вынужден был объяснять: «Это последнее желание общества сельских обывателей города Златоуста потому не высказано в приговоре, что теперь еще неизвестно, как велико будет пожертвование, может быть жертва будет насколько значительна, что и в настоящее время по окончании постройки памятника будет возможно что-либо сделать для сирот и бедных детей, обременяющих свои семьи и остающихся без всякого призора, о чем своевременно будет постановлен особый приговор» (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 26–27 об.).
-
В. Катанский предлагал определить место под будущий приют (кстати, это то самое место, где городская управа предполагала построить Александро-Невскую церковь) и, между прочим, заявил, что местный пастор Александр Краузе изъявил согласие выделить две тысячи рублей на открытие воспитательного дома (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 8–9 об.). Эти планы и рассуждения об использовании лишних средств выглядели оторванными от реальности, ведь еще не были собраны средства на памятник, он не был установлен, а уже планировалось, как использовать остатки от пожертвований, при этом пастор обещал присоединить к этой сумме внушительный вклад.
Таким образом, в Златоусте одновременно появились две инициативы об увековечивании памяти императора Александра II: крестьяне предлагали установить памятник и открыть воспитательный дом, а мещане и купцы – построить храм. Оба предложения попали на стол глав- ной конторы Златоустовских заводов, которая распоряжалась казенной землей в городе, и 11 мая 1881 г. состоялось заседание конторы, члены правления заметили противоречие: на одном и том же месте предлагалось возвести церковь и приют, однако было вынесено неопределенное решение «исполнить». Какое предложение предстояло исполнить, заводские власти не уточнили (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 15–15 об.). Возможно, совпадение, но письмо В. Катанского поступило в контору 11 мая, в тот же день, когда слушалось это дело. Вероятно, заводские власти могли симпатизировать предложению схода, тем более что инициаторами выступали крестьяне, работавшие на заводе, оружейной и сталепушечной фабриках, а потому могли способствовать своевременному появлению письма В. Катанского в конторе.
Незримый спор был невольно решен императором Александром III. 15 мая 1881 г. монарх получил доклад о приговоре схода в Златоусте, на который ответил сердечной благодарностью, т.е. одобрением. После этого в Златоусте не осталось вопросов, по какому плану действовать, и начальник Златоустовского горного округа В. П. Протасов распорядился об отводе места под памятник и установку временного столба с кружкой для сбора пожертвований, о начале сбора пожертвований по заводам округа и предложил ходатайствовать «о разрешении бесплатной отливки чугунных частей памятника» (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 19–20, 21–23 об.).
Крестьяне рассчитывали на скорый сбор пожертвований и установку памятника, однако это дело затянулось и потребовало организации в сентябре 1882 г. специальной комиссии по сооружению памятника. При этом произошла и смена руководства. На первом собрании комиссии В. Катанский передал дела новому непременному члену Златоустовского уездного по крестьянским делам присутствия А. Е. Угличинину, ставшему председателем комиссии (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 49–50 об.). Как он отмечал в одном из своих писем: «Обыватели, выведенные из всякого терпения медленностью исполнения к столь желаемому ими сооружению, обратились ко мне» (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 47–48). Новый председатель должен был «как можно скорее осуществить сооружение в г. Златоусте памятника». В 1884 г. последовала новая смена руководства: А. Е. Угличинин покинул занимаемый пост непременного члена и, потеряв административный ресурс, не мог быть полезен делу. Поэтому 26 апреля 1884 г. решением схода на место председателя комиссии пригласили начальника Златоустовского горного округа В. П. Протасова, при этом они вновь сетовали: «Дело же по сооружению памятника, как мы замечаем, совершенно без всякого движения» (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 136–137). В. П. Протасов принял приглашение, а комиссия получила мощный административный ресурс.
-
В. П. Протасов в сентябре 1886 г. вышел в отставку, а потому и комиссия по сооружению памятника осталась без руководителя [ Окунцов , Чабаненко , 2008]. Дело необходимо было завершать, тем более что к этому времени уже имелся утвержденный проект монумента, собраны пожертвования. Поэтому уфимский губернатор просил временно возглавить комиссию златоустовского уездного исправника (НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 461. Л. 16). Затем в том же 1886 г. председателем комиссии стал управитель Златоустовского железоделательного завода и Златоустовской оружейной и Князе-Михайловской сталепушечной фабрик П. А. Троян [ Окунцов , 2008].
Сбор пожертвований
Первая задача, которую предстояло решить комиссии, – это собрать пожертвования, при этом соблюсти принцип добровольности, как можно шире сообщить об инициативе жителей Златоуста и заинтересовать этой идеей население всего уезда. Поэтому В. Катанский просил руководство горного округа о содействии, а также сам направил серию типовых писем с приложением типографских экземпляров приговора руководству окрестных предприятий с предложением организовать на подведомственном предприятии подписку (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 26–27 об.; Ф. И-67. Оп. 1. Д. 3158. Л. 15–16 об.). Затем А. Е. Угличинин продолжил эту работу: он договорился о публикации в «Уфимских губернских ведомостях» информации о ходе работ по установке памятника Александру II в Златоусте, были направлены письма с предложением стать почетными членами комиссии уфимскому губернатору, епископу и муфтию, которым предлагалось оказать содействие в распространении подписных листов, а значит, сбор пожертвований вышел за пределы Златоуста и уезда и получил губернский статус (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 51–52 об.). К осени 1882 г. в комиссию уже поступили обязательства пожертвовать по 1000 рублей от Златоустовской городской управы и Златоустовской земской управы (неизвестно, были ли они исполнены; например, земская управа к октябрю 1887 г. так и не прислала обещанные средства) (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 49–50 об., 229–230). В 1884 г. от Юрюзанского волостного правления поступило 477 рублей 50 копеек (АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 266. Л. 60 об., 62 об.).
-
В. П. Протасов, приняв на себя обязанности председателя комиссии, продолжил рассылку писем по заводам своего горного округа, а также в соседние округа. Так, например, он обратился к управляющему Симским горным округом А. И. Умову. К концу 1884 г. было собрано около пяти тысяч рублей, однако по примерным подсчетам на реализацию проекта требовалось 15 тысяч рублей (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 140–141 об., 145–146).
К концу 1886 г. в распоряжение комиссии от пожертвований поступило 7905 рублей 44,5 копеек, из них израсходовано 1577 рублей 58 копеек, и ожидалось к поступлению от крестьян Златоустовского уезда и других лиц до 1093 рублей 87,5 копеек (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 188–189). После сооружения постамента (он обошелся в 3500 рублей) к осени 1887 г. комиссия стала испытывать острый дефицит средств, а потому П. А. Троян предложил горному начальнику Златоустовских заводов схему: средства, оставшиеся от отливки чугунной статуи в счет казны (ее стоимость оценивалась в 400 рублей), учитывая, что государь разрешил использовать до 1000 рублей, т.е. неиспользованные 600 рублей, выдать комиссии наличными (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 229–230). К 1889 г. поступление пожертвований вовсе прекратилось (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 266–266 об.). Поэтому, чтобы достроить монумент, благоустроить территорию вокруг, соорудить ограждение, а на это требовалось около 600 рублей, 5 июня 1891 г. управитель завода обратился за содействием в Златоустовское горнозаводское товарищество (Император Александр II…, 2019, с. 302–303), которое постановило: «Произвести удержания из заработка всех рабочих на заводе по 1 % с заработанного рубля» (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 295–298). Всего на сооружение памятника, не считая ограды, было израсходовано около 11 000 рублей (Екатеринбургская неделя, 1891, с. 549–550).
Сооружение памятника
-
15 мая 1881 г. Александр III одобрил инициативу златоустовских крестьян, однако впоследствии приходилось неоднократно прибегать к высочайшей санкции, чтобы выделить участок, получить разрешение на бесплатную отливку статуи, утвердить проект.
В августе 1881 г. начальник Златоустовского горного округа обратился к начальнику горных заводов Уральского хребта с просьбой разрешить бесплатную отливку чугунной статуи императора, предполагая, что это может стоить около 400 рублей. Горное начальство в Екатеринбурге не взяло на себя ответственность в решении этого вопроса и обратилось в Министерство государственных имуществ за согласованием (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 30–30 об.). В итоге этот вопрос дошел до императора Александра III, который разрешил бесплатно отлить чугунные части памятника на оружейной фабрике стоимостью до 1000 рублей (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 47–48).
Затем предстояло решить вопрос с доставкой камня с Александровской сопки. В сентябре 1882 г. члены комиссии произвели его осмотр и пришли к выводу, что он «найден способным быстро разрушиться», а потому не может быть использован в качестве постамента для памятника. Поэтому А. Е. Угличинин предложил взять от него лишь небольшую часть, которую следовало поместить в основание постамента, а на самой сопке поставить крест, устроить небольшую часовню, расчистить до нее дорогу, чтобы ежегодно весной совершать там панихиду. Впоследствии комиссии пришлось отказаться от идеи использования горного камня, а применить бутовый камень и кирпич с облицовкой постамента чугунными плитами (затем отказались и от чугунных плит, затенив их в проекте мраморной облицовкой) (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 92–92 об.).
Осенью 1882 г. комиссия приступила к строительным работам: решила вырыть котлован, произвести забутовку, зимой заготовить все необходимые материалы и с наступлением весны начать основные строительные работы (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 51–52 об.). В этом комиссию поддержал В. П. Протасов, в октябре 1882 г. он сообщил, что под памятник будет отведено 80 квадратных саженей (для сооружения монумента, фонтанов, цветника и насаждения деревьев), он же обещал содействие в вырубке леса и расчистке дороги до Александровской сопки (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 47–48). Выделение казенной земли под памятник потребовало высочайшей санкции, и через начальника горных заводов Уральского хребта, Ми- нистерство государственных имуществ, Государственный совет 13 декабря 1883 г. Александр III утвердил выделение участка на центральной площади Златоуста (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 109–109 об., 116).
Весной 1883 г. строительные работы возобновились. Мастеровой И. П. Лобанов, назначенный строителем постамента, был освобожден от работы на заводе (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 75). В июне того же года А. Е. Угличинин обратился в главную контору Златоустовских заводов с просьбой «заимообразно» или бесплатно «сию же минуту» выделить сосновые бревна и негашеной извести (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 80–80 об.). Однако и после этого строительство не началось. В следующем 1885 г. комиссия по сооружению памятника по ходатайству В. П. Протасова получила «в долг» за счет казны 6000 пудов горного камня и пять кубических саженей бутового камня, и за счет пожертвований были приобретены гвозди, скобы, сталь, железо, зубила, молотки, камень, известь, кирпич, каменные плиты, деготь, ведра, глина, доски, бревна, угль, дрова, свинец (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 178, 184–185).
Для начала строительных работ требовалось разработать проект. Предполагалось объявить конкурс на лучший «рисунок всего памятника» с премиями 25 и 10 рублей за первое и второе места (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 49–50 об.). 12 декабря 1885 г. В. П. Протасов направил проект памятника уфимскому губернатору с просьбой «ходатайствовать, где следует, о скорейшем утверждении» (НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 461. Л. 1–2 об.). Автором общего проекта стал местный художник-гравер М. Л. Мешалкин (ОГАЧО. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 44. Л. 46) [ Коси-ков , 1994]. Модель предполагалось заказать товариществу Даниловской мануфактуры в Москве, а статую изготовить на Златоустовском заводе.
Проект памятника был утвержден лишь спустя пять лет после решения схода о начале работ. Он прошел длинный путь по инстанциям: сначала строительное отделение Уфимского губернского правления, затем техническо-строительный комитет министерства внутренних дел, откуда поступил на утверждение императору 11 мая 1886 г. Согласно проекту на постаменте памятника должен был содержаться текст: на лицевой стороне сверху по карнизу – «Императору Александру II», внизу – «Сей памятник воздвигнут иждивением жителей уезда и города Златоуста», с правой стороны – «Царю-Освободителю» и там же ниже – «Наследником престола посетил Златоуст 1837 год», на противоположных сторонах такие же надписи на татарском языке, а на гранях по периметру – годы рождения, воцарения и смерти императора Александра II и год освобождения крестьян (НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 461. Л. 13–13 об.).
После получения всех необходимых согласований началось возведение постамента памятника. За эту работу по контракту взялся крестьянин Н. И. Новиков (стоимость его работы и материалов была оценена в 3305 рублей), который должен был окончить его к 1 июня 1887 г. Еще до этого комиссия вела переговоры об изготовлении скульптуры с профессором Императорской академии художеств М. П. Поповым (ОГАЧО. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 44. Л. 15–16). В конце 1886 г. он сообщил о готовности выполнить деревянную модель скульптуры в течение года за четыре тысячи рублей (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 188–189). Таким образом, к весне 1888 г. предполагалось завершить работы по сооружению памятника.
Возведение монумента вновь затормозилось на этапе отливки чугунной статуи. Заказ на изготовление статуи императора был отдан Кусинскому заводу, входившему в состав Златоустовского горного округа, его мастера имели богатый опыт художественного литья из чугуна. Управитель завода Ч.-С. В. Панцержинский обещал закончить работы до 1 января 1890 г., что и было исполнено, в декабре 1889 г. члены комиссии приняли скульптуру (отливка статуи обошлась в 590 рублей, и управитель завода просил возместить расходы за счет комиссии или Златоустовского завода) (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 257, 282–282 об.). В марте 1890 г. чугунный образ монарха прибыл в Златоуст (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 284–285).
К июню 1890 г. статуя была установлена на постамент, и комиссия занялась благоустройством прилегающей территории, в частности планировалось соорудить вокруг монумента ограду (АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 287–287 об.). Судя по фотографии открытия памятника, ограда с небольшим сквером внутри появилась позднее (РГИА. Ф. 1293 Оп. 169. Д. 2412).
Открытие памятника
Долгожданное открытие памятника императору Александру II в Златоусте состоялось 16 июня 1891 г. Это событие получило освещение в прессе, причем вышло за пределы губер- нии, по крайней мере, кроме «Уфимских губернских ведомостей», пространная информация о нем появилась в «Екатеринбургской неделе» (Уфимские губернские ведомости, 1891, с. 4; Екатеринбургская неделя, 1891, с. 549–550).
На площади вокруг памятника собралась «многотысячная масса городского и сельского населения», уфимский губернатор Л. Е. Норд, духовенство, представители городского управления, земства, старшины волостей Златоустовского уезда, ученики городского училища, воспитанницы частной женской прогимназии, ученики и ученицы народных школ со своими воспитателями, местная воинская команда, цеховые рабочие Златоустовского казенного завода, члены комиссии по постройке памятника. Необходимо обратить внимание на участие в торжестве учащихся, это подчеркивает важность для локального сообщества трансляции образа монарха последующим поколениям.
До начала церемонии памятник был покрыт тканью, которая спала с него в конце литургии. Затем состоялось возложение венков, провозглашение многолетия императору Александру III, императрице Марии Федоровне и всему царствующему дому, Сенату и строителям памятника. После этого, согласно сценарию, последовали речи. Выступал местный священник отец Павел. Он перечислил «главные благодеяния в бозе почившего императора, оказанные русскому народу – просил при каждом взгляде на памятник молить господа Бога об упоении души покойного в местах светлых». После него выступил губернатор: «О постигшем 10 лет тому назад Россию несчастии – мученической смерти благодетеля нашего, которого русский народ не сумел спасти от злодейской руки, и что загладить эту вину мы можем только глубокой преданностью ныне благополучно царствующему государю императору и всему царствующему дому».
Что же увидели горожане под спавшей с памятника пеленой? Это был памятник общей высотой около 9 метров, скульптура высотой 3,2 метра была установлена на высоком постаменте, облицованном мрамором. Император Александр II был изображен демократично – в общегенеральской форме с непокрытой головой, держащим в правой руке свиток манифеста со словами: «19 февраля 1861 г.», а левой опирающимся на тумбу. На пьедестале, с лицевой стороны памятника, наверху имелась надпись «1855. Царю-Освободителю. 1861», внизу – «Наследником престола посетил Златоуст в 1837 г.». На противоположной стороне надписи, наверху – «1818. Императору Александру II. 1881» и внизу – «Сей памятник воздвигнут иждивением жителей уезда и города Златоуста». На остальных двух сторонах постамента размещались надписи на татарском языке с использованием арабского письма.
Заключение
История сооружения памятника Александру II в Златоусте является примером воплощения в жизнь инициативы заводских крестьян. Таким образом выразилась их благодарность за Великие реформы, а именно за отмену крепостного права и признание важности преобразований для своего сообщества. Установка памятника растянулась на десять лет, причинами этого стали отсутствие опыта у крестьян в реализации подобных мемориальных проектов, амбициозность планов, высокая стоимость проекта, отсутствие крупных жертвователей и ориентация на локальные сообщества внутри уезда с робкими попытками выйти на уровень губернии. Между тем этот златоустовский опыт выявил реальное отношение населения к реформам Александра II, возможности местных сообществ к объединению вокруг общей цели и показал материальную состоятельность.
П. Нора отмечал, что «места памяти» существуют в трех смыслах – материальном, символическом и функциональном [ Нора , 1999, с. 40]. Материальное воплощение памяти жителей Златоуста о монархе воплотилось в скульптурном портрете Александра II, который, как и в 1837 г., предстал перед жителями города в самом его центре. Символически этот памятник содержал в себе благодарность бывших заводских крестьян за освобождение от обязательного труда на заводах, память о встрече с будущим монархом в 1837 г. Функционально монумент стал центром коммеморативных практик, повторяющихся акций поминовения погибшего императора и трансляции образа монарха с включением региональной специфики. Этим объясняется и текстовая насыщенность постамента памятника, ставшего конспектом «коммеморативного нарратива».
Изучение мемориализации Александра II в дореволюционной России, определение географических и этнических границ ареала памятников, интерпретация символического содержа- ния «мест памяти» могут быть полезны для исследования процесса формирования национальной идентичности. Для Урала установка памятника императору в Златоусте стала уникальным случаем, явившим собой пример для других городов. Например, в Екатеринбурге в 1906 г. была установлена копия златоустовского памятника, а в 1915 г. жители соседнего Миасского завода также инициировали процесс установки у себя памятника Александру II, причем было решено установить копию златоустовского монумента. Первая мировая война, последующие революционные события и Гражданская война не позволили этим планам претвориться в жизнь (АЗ-ГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2420. Л. 99, 100, 135). Еще одна копия златоустовского памятника была установлена в 1913 г. в с. Сорочинском Бузулукского уезда Самарской губернии (ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 58. Д. 13. Л. 8–8а, 12, 13).
Памятник Александру II в Златоусте был снесен вскоре после установления в городе советской власти летом 1919 г. [ Приходько , Окунцов , 2013, с. 35]. Краеведы рассказывают, что мраморные блоки от постамента использовали для первого памятника В. И. Ленину в городском саду, а одна часть постамента долгое время обрамляла водосток на углу городского сада, чугунная статуя была затоплена в пруду неподалеку.
Автор выражает благодарность кандидату исторических наук, доценту ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета И. А. Новикову за помощь в подготовке статьи и предоставленные архивные материалы.
Список литературы Памятник императору Александру II в Златоусте: пример провинциальной коммеморации в дореволюционной России
- Антипин Н.А. Мемориализация императора Александра II в Оренбургской губернии // Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен: сб. статей междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / науч. ред. С.В. Любичанковский. Оренбург, 2020. Т. 2. С. 43-47. EDN: MGFOMB
- Антипин Н.А., Купцов И.В. Православные храмы Челябинска: история и современность. Челябинск, 2015. 452 с. EDN: WZFMAF
- Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab imperio. 2004. № 3. С. 71-90. EDN: PDFFGP
- Косиков Н.А. Александру II памятник // Златоустовская энциклопедия: в 2 т. Златоуст, 1994. Т. 1. С. 10.
- Новиков И.А. Император Александр II в истории Южного Урала // Император Александр II и Южный Урал: сб. док. и материалов / сост., науч. ред. Н.А. Антипин. Челябинск, 2019. С. 24-37. EDN: MBFUXB