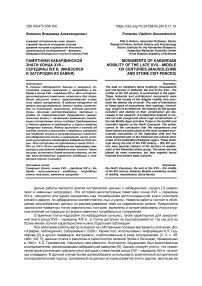Памятники кабардинской знати конца XVII - середины XIX в. (мавзолеи и загородки из камня)
Автор: Фоменко Владимир Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обобщаются данные о каменных постройках чэщанэ (мавзолеях и загородках) в Кабарде в конце XVII - середине XIX в. Эти историко-архитектурные памятники строились для погребений адыгской знати, практиковавшей исламский обряд захоронения. В работе говорится об ареале распространения данных видов памятников, их типологии, хронологии, истоках архитектуры, причинах распространения, эволюции и упадке их строительства. Проводится сравнительный анализ с наземными каменными склеповыми постройками эпохи позднего Средневековья и Нового времени в предгорных и горных районах Северного Кавказа. Автор приходит к выводу об особом значении мавзолеев и каменных загородок как наиболее сложных монументальных памятников кабардинской элиты и важнейшей части историко-культурного ландшафта Кабардино-Пятигорья. Эти постройки на протяжении конца XVII в. - 20-х гг. XIX в. были своеобразными маркерами территории расселения кабардинского этноса. Такую же роль выполняли более многочисленные, но менее величественные курганные кладбища и старинные плиты (сыныжь).
Северный кавказ, конец xvii - середина xix в, кабарда, мусульманские кладбища, погребения знати, мавзолеи, каменные загородки
Короткий адрес: https://sciup.org/149133877
IDR: 149133877 | УДК: 94(470.638/.64) | DOI: 10.24158/fik.2019.11.10
Текст научной статьи Памятники кабардинской знати конца XVII - середины XIX в. (мавзолеи и загородки из камня)
Целью работы является анализ исторических данных о кабардинских чэщанэ [1] (мавзолеях и каменных загородках). Эти историко-архитектурные памятники конца XVII – середины XIX в. находятся или ранее находились над погребениями восточноадыгской знати (сословий князей и дворян, по-кабардински соответственно пщи и уэркъ ). Новизна работы состоит в обобщении разнообразных данных по рассматриваемой теме на современном уровне. Предложена хронология названных типов намогильных построек, выявлены и конкретизированы инокультурные влияния на традиции установки каменных погребальных сооружений.
Старинные плиты-надгробия (по-кабардински сыныжь ), также характерные для захоронений знати конца XVII – середины XIX в., в статье детально не рассматриваются, так как для их более-менее полной характеристики нужна отдельная публикация.
При написании работы автор опирался на собственные полевые материалы (описания, фотографии, наблюдения), собираемые с 2008 г. Кроме того, использованы: информация Х.З. Гед-гафова [2] и других краеведов; материалы, опубликованные в ряде исследований [3; 4, с. 48, табл. VIII; 5]; данные отчета о раскопках в окрестностях селений Чегем и Лечинкай, проведенных в 1949 г. К.Э. Гриневичем. Насколько нам известно, Константин Эдуардович был единственным исследователем, раскапывавшим кабардинские мавзолеи [6]. Однако следует учесть, что применение археологических (раскопочных) методов к памятникам конца XVII – середины XIX в. не всегда оправдано. В данном случае более целесообразно использовать комплексный исторический исследовательский подход, основанный на данных истории развития элиты адыгов, эволюции ее ментальности. Невозможно не учитывать культурных (в том числе духовных) влияний. Важно проследить историю связей с религиозными центрами и т. д.
Работы, непосредственно посвященные кабардинским мавзолеям и каменным намогильным загородкам Нового времени, в отечественной историографии не известны. Однако некоторые сведения о них присутствуют в отдельных публикациях [7], так как нередко старинные каменные постройки на территории Центрального Предкавказья фиксировались (на рисунках и фотографиях, в описаниях) путешественниками, историками и археологами начиная с конца XVIII в. Восприятие довольно поздних каменных построек ( чэщанэ ) как археологических памятников не совсем корректно. Это прежде всего исторические памятники, в прошлом во многом определявшие историко-культурный ландшафт владений кабардинских князей.
Большая часть старинных мавзолеев и намогильных загородок была разрушена в ХIХ и ХХ вв., а камень использован как строительный материал [8, с. 14–15]. Ареал распространения этих видов памятников восстанавливается с помощью разрозненных данных о существовавших ранее постройках (на возвышенности Куш-бшапа у селения Куба Баксанского района [9, с. 48, табл. VIII, 1 ], у устья Гунделена близ селения Заюково в долине Баксана [10], у станицы Ессентукской в долине Подкумка [11, рис. 11, 12]).
У селения Баксаненок в конце XVIII в. располагались несколько каменных мавзолеев и намогильных загородок [12, с. 48, табл. VIII, 2 ], из которых сохранился только один мавзолей [13, с. 63, 138]. Остатки бескупольных построек сохранились у селений Чегем II и Лечинкай [14, с. 189, 190].
У селения Верхний Куркужин уцелели дольменовидные строения [15] XVIII или первой половины XIX в. Похожее сооружение из камня, но гораздо меньших размеров находится на современном кладбище селения Шалушка близ Нальчика [16]. Постройка из камня, являющаяся грубым подражанием прямоугольной бескупольной загородки, сохранилась у Баксанской гидроэлектростанции на окраине селения Заюково. В селении Исламей на кладбище находится довольно поздняя (вероятно, рубеж XIX–XX столетий) прямоугольная загородка [17].
Из перечисленного понятно, что мавзолеи и намогильные загородки характерны в целом для района Кабардино-Пятигорья, но несколько чаще встречаются в среднем течении рек Баксан и Чегем, т. е. в историческом центре Большой Кабарды.
Типологически различимы купольные и бескупольные (открытые сверху) постройки, в плане они могут быть восьмиугольными и прямоугольными (чаще квадратными). Исходной формой, видимо, следует считать купольные восьмигранные мавзолеи, которые эволюционировали в многогранные бескупольные и далее в также бескупольные прямоугольные в плане загородки, которые, возможно, следует считать итоговой формой развития.
Известны немногочисленные переходные формы (бескупольные восьмигранные сооружения у селений Чегем II и Лечинкай, а также прямоугольные в плане постройки с куполом и двускатным перекрытием у селения Баксаненок). Эти переходные формы подтверждают общую тенденцию развития от более сложных восьмигранных купольных мавзолеев к сильно упрощенным прямоугольным в плане постройкам без перекрытия, т. е. к загородкам.
Предложенная нами схема эволюции намогильных построек кабардинской элиты конца XVII – середины XIX в. позволяет прийти к выводу, что восьмиугольные в плане купольные мавзолеи не имеют местных архитектурных истоков (происхождения). Можно согласиться с археологом К.Э. Гриневичем, который о происхождении таких построек в долине реки Чегем высказался вполне определенно, указав на их сходство с мавзолеями-тюрбе близ Бахчисарая в так называемом Азисе [18, л. 59–60].
В 1960-х гг. среди кавказоведов развернулась дискуссия о происхождении разнообразных северокавказских мавзолеев [19]. Некоторые из высказанных версий генезиса намогильных памятников кабардинской знати отличаются маловероятностью. Так, ранее предполагалось сугубо местное (горнокавказское) происхождение многоугольных мавзолеев [20].
Сопоставление типологии наземных каменных склеповых построек, распространенных в эпохи позднего Средневековья и Нового времени в предгорных и горных районах Северного Кавказа от Дагестана до Верхнего Прикубанья, свидетельствует о разнообразии и многокомпо-нентности истоков их архитектуры. Заметно лишь некоторое, вероятно опосредованное через феодальную элиту Кабарды, влияние крымской исламской архитектуры на намогильные постройки знати XVIII в. и, возможно, позднее в части ингушских [21, рис. 7, 4, 5 ], осетинских [22, с. 385, рис. 65, 2, 6, 7, 8 ], балкарских [23, с. 203–209, табл. VIII–XI], карачаевских [24, фото 18, 19, табл. 6; 25, с. 77–78, 137–139, рис. 10–12] и абазинских [26, с. 32] обществ.
Следует подчеркнуть, что истоки архитектуры мавзолеев у селений Чегем II и Лечинкай, указанные К.Э. Гриневичем, а также даты арабских надписей на них, установленные Л.И. Лавровым [27], позволяют связывать строительство памятников мусульманской архитектуры в Кабарде с усилением влияния здесь Крымского ханства в конце XVII столетия [28, с. 185] и с укреплением исламских традиций среди представителей знатных кабардинских родов в последующем XVIII в.
Сравнение мавзолеев Азиса, а также других каменных погребальных памятников XV–XVIII вв. в районе Бахчисарая [29, с. 309–311, 318–319, 322] не демонстрирует их полного сходства с исламскими намогильными сооружениями Кабарды конца XVII – ХIX в. Существенно сходство в общей форме и пропорциях построек, в материалах и технологии строительства. Присутствующие же различия вполне объяснимы тем, что и сами крымские мавзолеи не копируют друг друга полностью. Многие памятники индивидуальны, так как их архитектурные пропорции и декор, вероятно, должны были подчеркивать высокий социальный статус верхушки знати Крымского ханства.
Можно высказать предположение, что часть многогранных и прямоугольных в плане мавзолеев в Кабарде была построена мастерами, присланными правителями Крыма. Позднее, во второй половине XVIII в. и особенно после включения полуострова в состав Российской империи [30], политическое, культурное и религиозное влияние крымцев на кабардинскую знать ослабло и в начале ХIX в. угасло. Однако каменные мавзолеи и их более простые бескупольные формы и загородки продолжали строиться уже местными мастерами-каменщиками. Некоторые разновидности загородок с элементами схожести с мавзолеями устанавливались усопшим князьям и дворянам и в начале XХ столетия.
В XIХ в. и особенно после отмены крепостного права в Кабарде влияние князей и дворян сильно ослабло, изменились социальная роль и функции местной элиты [31], что и стало, наряду с угасанием кабардино-крымских связей, важнейшей причиной упадка строительства здесь каменных мавзолеев и бескупольных намогильных сооружений.
Старинные плиты-надгробия (с ыныжь ), вырезанные из туфа или других пород камня, вероятно, появились одновременно с чэщанэ на могилах князей и дворян, но устанавливались и в начале XХ в. Сыныжь как наиболее простая форма надгробий знати оказалась более стабильной и в советский период постепенно трансформировалась в современные виды намогильных памятников кабардинцев [32].
Таким образом, мавзолеи и каменные загородки, являясь наиболее сложными монументальными памятниками кабардинской элиты, имели особое значение и составляли важнейшую часть историко-культурного ландшафта Кабардино-Пятигорья.
Мавзолеи и другие виды чэщанэ являются памятниками адыгской феодальной знати (князей и дворян), в эпитафиях на них упоминаются имена Атажукиных, Батокина (потомок Бекмур-зиных), Наурузова (потомок Мисостовых), Куденетовых, Ашабова, Махокова. Эти когда-то величественные постройки наряду с более многочисленными языческими курганными кладбищами и старинными плитами ( сыныжь ) являлись с конца XVII в. до 20-х гг. XIX в. маркерами территории расселения кабардинского этноса.
Ссылки и примечания:
Список литературы Памятники кабардинской знати конца XVII - середины XIX в. (мавзолеи и загородки из камня)
- Нарышкин Н.А. Отчет гг. Нарышкиных, совершивших путешествие на Кавказ (Сванетию) с археологическою целию в 1867 г. // Известия Императорского Русского археологического общества. СПб., 1877. Т. VIII. С. 325-368
- Материалы и исследования по археологии СССР. Вып. 3. Материалы по археологии Кабардино-Балкарии / под ред. М.И. Артамонова. М.; Л., 1941. 325 с
- Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии (материалы к археологической карте). Нальчик, 1969. 152 с.
- Эпиграфические памятники Северного Кавказа (на арабском, персидском и турецком языках) / тексты, пер. коммент., введ. и прил. Л.И. Лаврова. Ч. II: Надписи XVIII-XX вв. М., 1968. 248 с.
- Гриневич К.Э. Отчет о работе Кабардинской археологической экспедиции 1949 г. Нальчик, 1949. Рукопись хранится в архиве Института археологии РАН. Ф. Р-1. Д. 350. 176 л., 205
- Лавров Л.И. Об арабских надписях Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Нальчик, 1960. Т. XVII (Серия историческая). С. 97-121.
- Лавров Л.И. Альбом и макеты Д.А. Вырубова по этнографии и археологии Кабардино-Балкарии // Сборник Музея антропологии и этнографии. Вып. XXXIV. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана / отв. ред. С.М. Абрамзон, Л.И. Лавров. Л., 1978. С. 71-84.
- Фоменко В.А. Некрополь Атажукиных в устье реки Гунделен у селения Заюково // Вестник Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Нальчик, 2014. Вып. 2 (21). С. 21-27.
- Деген-Ковалевский Б.Е. Работа на строительстве Баксанской гидроэлектростанции: отчет о работах // Археологические работы Академии на новостройках в 1932-1933 гг.: в 2 т. Т. 2. М.; Л., 1935. С. 11-28
- Фоменко В.А. Некрополь Атажукиных в устье реки Гунделен у селения Заюково // Вестник Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Нальчик, 2014. Вып. 2 (21). С. 21-27.
- Фоменко В.А. Пятигорье в XV - середине XVIII в. Пятигорск, 2002. 76 с
- Эпиграфические памятники Северного Кавказа (на арабском, персидском и турецком языках) / тексты, пер. коммент., введ. и прил. Л.И. Лаврова. Ч. II: Надписи XVIII-XX вв. М., 1968. С. 63.
- Эпиграфические памятники Северного Кавказа (на арабском, персидском и турецком языках) / тексты, пер. коммент., введ. и прил. Л.И. Лаврова. Ч. II: Надписи XVIII-XX вв. М., 1968. С. 168.
- Кармов Т.М., Николаев С.В. Объекты культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. Нальчик, 2008. 214 с
- Даутова Р.А. К вопросу о происхождении мавзолеев Северного Кавказа // Новые материалы по археологии и этнографии Чечено-Ингушетии. Грозный, 1987. С. 44-52.
- Даутова Р.А. К изучению позднесредневековых мавзолеев Северного Кавказа (об источниках и историографии) // Вестник Академии наук Чеченской Республики. Грозный, 2010. № 2 (13). С. 100-105.
- Нечаева Л.Г. О мавзолеях Северного Кавказа // Сборник Музея антропологии и этнографии. Вып. XXXIV. С. 85-112.
- Батчаев В.М. О многоугольных склепах Северного Кавказа // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. Крупновские чтения. 1971-2006. М.; Ставрополь, 2008. С. 179. Эпиграфические памятники Северного Кавказа (на арабском, персидском и турецком языках) / тексты, пер. коммент., введ. и прил. Л.И. Лаврова. Ч. II: Надписи XVIII-XX вв. М., 1968. С. 122.
- Древности горной Ингушетии: в 2 т. / авт.-сост. Д.Ю. Чахкиев; отв. ред. И.А. Алироев. Т. 1. Назрань, 2003. 161 с
- Дзаттиаты Р.Г. Культура позднесредневековой Осетии / науч. ред. В.Х. Тменов. Владикавказ, 2002. 432 с
- Батчаев В.М. Балкария в XV - начале XIX в. М., 2006. 240 с
- Мизиев И.М. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая (XIII-XVIII вв.) / отв. ред. Е.И. Крупнов. Нальчик, 1970. 91 с
- Биджиев Х.Х. Погребальные памятники Карачая XIV-XVIII вв. // Вопросы средневековой истории народов Карачаево-Черкесии / отв. ред. В.И. Марковин. Черкесск, 1979. С. 63-145
- Абазины. Историко-этнографический очерк / науч. ред. А.И. Першиц. Черкесск, 1989. 240 с
- Лавров Л.И. Об арабских надписях Кабардино-Балкарии // Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ. Нальчик, 1960. Т. XVII (Серия историческая). С. 97-121.
- Унежев К.Х. История религий Кабардино-Балкарии. Нальчик, 2007. 215 с
- Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: иллюстрированный справочник-каталог: в 4 т. Т. 2. Винницкая, Волынская, Ворошиловградская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Крымская области / отв. ред. И.А. Игнаткин. Киев, 1985. 337 с
- Fisher A.W. The Russian Annexation of the Crimea 1772-1783. Cambridge (UK), 2008. 200 p
- Нагоева Р.Р. Трансформация сословной структуры кабардинцев в 20-60-е гг. XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Нальчик, 2009. 23 с
- Текуева М.А., Нальчикова Е.А. Надмогильные памятные знаки у народов Северо-Западного и Центрального Кавказа // Кавказология. Нальчик, 2018. № 3. С. 69-92.
- DOI: 10.31143/2542-212X-2018-3-69-92