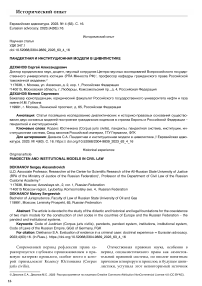Пандектная и институционная модели в цивилистике
Автор: Деханов С.А., Деханов М.С.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 4 (63), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию диалектических и историко-правовых оснований существования двух основных моделей построения гражданских кодексов в странах Европы и Российской Федерации - пандектной и институционной.
Кодекс юстиниана, пандекты, пандектная система, институции, институционная система, свод законов российской империи, ггу германии, фгк
Короткий адрес: https://sciup.org/140302030
IDR: 140302030 | УДК: 347.1 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_63_4_16
Текст научной статьи Пандектная и институционная модели в цивилистике
2023;4(63):16. (In Russ.).
Современный период рефлексии права характеризуется глубоким проникновением в правовую материю прошлого, особое место в которой принадлежит Кодексу Юстиниана (Corpus juris civilis).
Отечественная правовая наука, особенно в период социалистического права как самостоятельной правовой системы, по вполне понятным причинам игнорируя и прошлое, и будущее цивилистики, уступила этот неповторимый источник
права и культуры западному миру. Не в последнюю очередь именно этим фактором объясняется периодическое отставание российской цивилистики от цивилистики западной. Например, немецкие исследователи не стесняются признаваться себе и миру в том, что для постройки германского права фундамент и столбы доставил Рим. Мы столь много и столь часто (особенно в конце XIX столетия) говорили о нашей близости к Византии, а взяли у Византии только ее церемониальную имперскую помпезность, но никак не право.
Юристам хорошо известно, что Кодекс Юстиниана (Corpus juris civilis) состоит из четырех частей, две из которых: Пандекты (Дигесты) и Институции и выступили в качестве источников и одновременно номенов существования двух основных моделей построения гражданских кодексов в странах Европы и Российской Федерации – пандектной и институционной.
Именно пандектная и институционная модели, или принципы, определяют «лица» современных гражданских кодексов стран, относящихся к романо-германской правовой семье.
В настоящее время романо-германская правовая семья рассеяна по всему свету. Она вышла далеко за пределы бывшей Римской Империи и распространилась на всю Латинскую Америку, значительную часть Африки, страны Ближнего Востока, Японию, Индонезию [5, с. 29].
Временем, когда, с научной точки зрения, появилась романо-германская система права, считается XIII в.
Поэтому первым можно считать период, предшествующий XIII в., когда собирались материалы, но еще отсутствовали попытки синтезировать их, и когда не было даже какой-либо системы.
Второй период начался с возвращения изучения римского права в университеты. В течение пяти веков в системе господствовала доктрина, под определяющим влиянием которой эволюционировала правовая практика в различных государствах. Доктрина подготовила вместе со школой естественного права наступление следующего периода, в котором мы находимся в настоящее время – период законодательства [5, с. 31].
Сама эта тема – исследования проблем пан-дектистики и институций (институционной модели) – далеко не нова. До революционных преобразований 1917 г. крупнейшие отечественные юристы, наряду с представителями западной правовой науки, активно осваивали это научное направление, определенный научный интерес данная проблематика вызывает и сейчас [1, 8, 10, 11, 12].
«Все право, которым мы пользуемся, – писал Гай, – относится или к лицам, или к вещам (объектам), или к искам» [9]. Вот уже не одно столетие мы повторяем эти слова, хотя современники Гая вряд ли их цитировали, так как он не имел jus respondendi (право давать тяжущимся свои решения как бы от имени императора (ex auctoritate principis) и с обязательною для судьи силой). Как бы мы сейчас сказали, Гай был простым ученым, у которого можно было многому научиться, но указаниями которого нельзя было воспользоваться на практике или в политической деятельности.
Однако, несмотря на то, что Гай не имел jus respondendi, по внутренней системе институции (как часть Кодекса Юстиниана) следуют Гаю и «поэтому заключают в себе введение (кн. 1 tit. 1, 2), затем с 3 титула кн. 1 до конца книги jus personarum (лица. – прим. авт.), далее (кн. II и III до 12 тит.) jus rerum (вещные права. – прим. авт) и, наконец, jus obligationum et actionum (от 13 тит. III кн. до конца): последнее составляет одно целое, но разделяется на два отдела: jus obligationum (обязательства. – прим. авт.) и jus actionum (иски. – прим. авт.)» [11, с. 23].
Институционная модель в качестве «промышленного образца» нашла свое воплощение в Гражданском кодексе Франции [4], а Гражданский кодекс Германии (ГГУ Германии) [3] олицетворяет собой пандектную модель, к которой принадлежит и ГК РФ. Поэтому невозможно принять точку зрения профессора В. Дождева, который считает, что «пандектная модель представляет собой развернутый вариант институционной системы и следует ее принципам» [15].
Почему Франция сделала выбор в пользу институционной модели? Причины такого выбора, скорее всего, кроются в том, что по источникам действовавшего в ней права Франция делилась на две части: страну писанного права (Южная Франция) и страну обычного права (Северная Франция). Деление Франции по источникам господствовавшего в ней права на упомянутые две части не было искусственным, «установленным какой-либо властью: оно устанавливалось само собой, так как в Южной Франции, вследствие ее положения близ Италии и разных других обстоятельств, …римская культура и римское законодательство получили преобладание над пришлым элементом; напротив, в Северной Франции преобладающим элементом явилось право германского происхождения» [11, с. 37]. При таких условиях у Франции просто не было другого выбора. Несмотря на то, что к моменту начала работы над кодексом пандектная система, о которой мы бу- дем говорить ниже, уже была достаточно подробно разработана немецкими учеными, признание к тому времени она получила только в Германии.
Ключевую роль в определении «лица» будущего французского Гражданского кодекса, конечно же, сыграла Французская буржуазная революция.
«Революция разом покончила со старыми порядками, и как одна из обязанностей конституционной законодательной власти была указана в titre preliminaire (преамбуле к конституции. – прим. авт.) 3 сентября 1791 г. обязанность составления кодекса» [11, c. 39]. Было несколько конституционных проектов, как это обычно бывает. Самое деятельное участие в работе над одним из них принял Наполеон. В течение 1803–1804 гг. законодательным собранием Франции были приняты 37 отдельных законов, образующих code civil, которые по мере их принятия были обнародованы. Эти 37 законов образовали 36 титулов кодекса, а 37-й, состоящий всего из 6 статей и имеющий предметом акты почтения (actes respectueux), вошел в титул du marriage» [11, с. 41]. Несколько раз code civil менял свое название: сразу после принятия – Гражданский кодекс (code civil); 24 августа 1807 г. он получил название Кодекс Наполеона (code Napoleon); в 1814 – снова code civil; декретом от 27 марта 1852 г. ему было восстановлено прежнее название Кодекс Наполеона.
Пределы действия Кодекса не ограничивались только одной Францией: он также был введен в тех странах, которые были в союзе с Францией: Италии, Голландии, великом герцогстве Баденском, королевстве Вестфальском, Варшавском герцогстве и др. Что касается источников Кодекса, то главнейшими из них были кутюмы Парижа.
Кодекс Сode Napole состоит из введения и трех книг. Первая называется des personnes (лица), она включает в себя 11 титулов; вторая книга содержит вещное права (вещи); в третью книгу включены вопросы наследственного и обязательственного права. Именно нормы обязательственного права занимают большую часть третьей книги и включают в себя общую и особенную части, посвященную отдельным договорам.
Таким образом, нормы Кодекса распадаются по содержанию на две группы: лица и вещи. Эти две группы соответствуют римским personae и res. Что же касается actiones (иски), то они включены в code procedure civile, «так что составители кодекса заимствовали римскую систему… Таким образом, римское право имело значительное влияние не только на существо постановлений кодекса, но и на систему его» [11, с. 59].
Могли ли немцы пойти по пути французов и также при создании собственного Кодекса (гражданского уложения) использовать институционную модель? Думаю, нет. Дело в том, что Германия исторически относилась к стране пандектного права. Под пандектным правом надо понимать общегерманское гражданское право римского происхождения. Римское право стало действующим в Германии не в силу законодательного акта, а наподобие обычного права, точнее говоря, через соблюдение его не народом, а юристами, которые основывали на нем свои решения и мнения. Они действовали при этом под влиянием неотразимой нравственной силы, которую проявляло над ними римское право [2, с. 15]. Как по форме, так и по содержанию оно было настолько выше туземного права, что представлялось не национальным, а всеобщим правом.
Как ранее уже было сказано в других работах автора, первым учебником пандектного права был учебник А.Ф.Ю. Тибо [6, с. 36]. Учебник выдержал 8 изданий.
Выдающаяся роль пандектистов состоит в том, что им удалось отработать и показать наличие общих понятий, обособить общую и особенные части гражданского законодательства (кодекса), осуществить классификацию договоров (в дигестах этой классификации не было), сконструировать институт права собственности, придать современное звучание институтам вещного права, таким как сервитут, суперфиций, эмфитевзис и, конечно же, отграничить вещные права от обязательственных прав.
Наука пандектистика разработала такие правовые институты, неизвестные римскому праву, как «право преимущественного приобретения чужой вещи, преимущественное право покупки, право вещного обременения, поземельного и рентного долга» [7].
Создатели пандектного права разработали юридическую науку и юридическую догматику посредством интерпретации Corpus Uris Civilis (Свод римского гражданского права). Возникшая в результате так называемая «юриспруденция понятий», или пандектистика, названная так из-за систематического изучения пандектов, начало которому положил Г. Пухта, представлена такими авторитетными романистами, как К. Вангеров, О. Бринц, Г. Дернбург и Б. Виндшайд, которые провели работу по синтезу теории данной школы.
Несмотря на ключевую роль пандектистов в немецкой цивилистике того времени, до 1 января 1900 г. (дата вступления в силу ГГУ) Германия в отношении своего гражданского права была раз- бита на две большие области. Одна из них была областью так называемого пандектного права или, как ее еще называют, областью общего права, где римское гражданское право в своем общеправовом образе имело силу закона, постольку оно не было изменено нормами партикулярного права. К этой области принадлежали «Гольштейн, отдельные части Шлезвига, Ганзейские города, Лауенбург, Мекленбург, Новая Померания и Рюген, Ганновер (большая часть), Ольденбург (за исключением Биркенфельдского княжества), Брауншвейг, герцогства Тюрингенское, Липпе-Детмольд, Шаумбург-Липпе, Вальдек, округ бывшего апелляционного суда Эренбрейтштейн, Гес-сен-Нассау, Гессен-Дармштадт (за исключением Рейнского Гессена), Гогенцоллерн, Вюртемберг и Бавария (за исключением Пфальца и франкских княжеств). Эта обширная область общего права замыкалась на севере Шлезвиг-Гольштейном, на юге – Баварией» [8].
Поэтому у немцев понимание необходимости использовать именно пандектную модель сложилось не вдруг и не без связи с предшествующими памятниками права, такими как «Всеобщее земское право для прусских государств» (Прусское гражданское уложение) и Саксонский Гражданский кодекс и пандектное право.
Несмотря на то, что Прусское гражданское уложение по времени предшествовало Саксонскому гражданскому уложению, пандектная система впервые была использована именно в Саксонском гражданском уложении 1863 г., сменившем Уложение 1852 г. По своей структуре Уложение было разделено на пять частей: «общие определения, право вещное, право требований, семейное право, опека и право наследования» [11, с. 106]. Но главным и, пожалуй, отличительным фактором Уложения была не его структура, а то, что в основание саксонского уложения была положена не система отдельных прав, а система правоотношений.
В этом месте следует сделать небольшое отступление и ответить на вопрос об историко-теоретических предпосылках, а может быть, даже и доктринальных основаниях такого подхода.
Дело в том, что среди крупных немецких ученых-теоретиков не было единства взглядов по вопросу выбора способа систематизации будущего кодекса.
Так, например, в основу систематизации гражданского права у Савиньи было положено понятие правового института, которое включало ряд правовых норм, сгруппированных вокруг одного общего для них правового явления. Система права строилась не через аккумуляцию са- мих правовых норм, а опосредованно – через систематизацию правовых институтов [14]; вместо правовых институтов Пухта выдвигает в качестве структурной модели систематики гражданского права «пирамиду правовых концепций», где каждая конкретная норма выводится дедуктивно из более общей правовой концепции, которая, в свою очередь, является эманацией еще более общей правовой концепции, и так далее вплоть до самых универсальных концептов и идеи права в целом. Тест на адекватность конкретной правовой нормы состоял в проверке ее «вписанности» в эту «юриспруденцию концепций».
Пухта и в особенности ранний Йеринг довели эту «юриспруденцию концепций» до крайности, рассматривая концепции чуть ли не как живые организмы, живущие своей особой, «концептуальной» жизнью [13, с. 87]. Такая «биология права» стала визитной карточкой пандектистики в ее негативном проявлении.
Кодификационные начинания не были чужды и отечественному законодателю. В течение 60 лет, начиная с Петра Великого и до Екатерины II, типичными были две модели кодификации – составление свода и сочинение уложения [11, с. 225].
Мысль о гражданском уложении в России не нова: об уложении помышляли и правительство, и различные кодификационные комиссии, которые учреждались и существовали до 1826 г.
Настоящая работа по кодификации действовавшего законодательства началась в 1826 г., когда император Николай I поручил работу над Сводом законов Второму отделению Собственной Его Императорского Величия канцелярии. Несмотря на то, что руководителем канцелярии был назначен действительный статский советник М.И. Ба-лугьянский, фактически эту работу возглавлял М.М. Сперанский.
Составление Полного собрания законов Российской империи было окончено 1 марта 1830 года. Законы гражданские вошли в том X Свода законов.
Исторические условия развития отечественного гражданского права и время принятия Свода законов Российской империи не позволяют говорить о том, что в Своде в целом или какой-либо его части была реализована институционная или пандектная модель (в польском крае (герцогство Варшавское) Российской империи действовал французский гражданский кодекс). В чистом виде Свод не являлся ни уложением, ни кодексом, к которым можно было бы применить ту или иную модель (тот или иной принцип построения). Условно выбор в пользу пандектной модели произойдет в России позднее, когда сначала в ГК
РСФСР 1922 г., а затем в ГК РСФСР 1964 г. и ГК РФ 1994 г. будут реализованы элементы пандектной модели.
Проведенное краткое исследование, конечно же, не позволяет утвердительно ответить на вопросы о том, почему практически все европейские страны, включая Российскую Федерацию, при выборе модели организации гражданского кодекса используют либо пандектную, либо институционную модель. Удовлетворяют ли существующие модели построения гражданских кодексов гражданский оборот в целом и какая модель является более эффективной, сказать трудно, а может быть, и невозможно. Доказательством данного тезиса является успешное функционирование обеих моделей в различных странах.
Список литературы Пандектная и институционная модели в цивилистике
- Бернхефт Ф. Гражданское право Германии. СПб.: Сенатская типография, 1910.
- Виндшейд Б. Учебник Пандектного права / пер. с немецкого С.В. Пахмана. Издание Гироглифова и Никифорова. СПб.,1974.
- Германское гражданское уложение [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Германское_гражданское_уложение.
- Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=55696#S27T5STIR6jPTqHa1.
- Давид Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения, 1999.
- Деханов С.А. Идея вещных прав: от римской юриспруденции и учения пандектистов до системы ограниченных вещных прав в современном гражданском законодательстве // Евразийская адвокатура. 2020. № 4 (47). С. 32–37.
- Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельные участки [Электронный ресурс]. URL: //https://dlib.rsl.ru/viewer/01004842369#?page=20.
- Зом Р. Институции. Учебник истории и системы римского гражданского права. Вып. I. СПб., 1908.
- Институции Гая = Gai Institutionum commentarii quattuor / под общ. ред. проф. Д.В. Дождева. М.: Статут, 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/upload/iblock/598/sum58248.pdf.
- Пахман С.В. История кодификации гражданского права. М., 1898.
- Пименова П.Д. Институционный и пандектный принцип изложения права [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionnyy-i-pandektnyyprintsip-izlozheniya-norm-grazhdanskogo-prava/viewer/.
- Новгородцев П. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. М., 1896.
- Reimann M. Nineteenth Century German Legal Science // 31 Boston College Law Review. 1989–1900.
- Wieacker F. A History of Private Law in Europe. 2003.
- http://iusromanum.ru/knigi/institucii-gaiya.