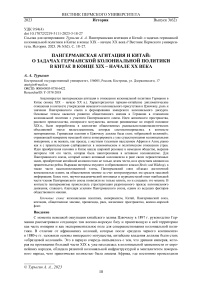Пангерманская агитация и Китай: о задачах германской колониальной политики в Китае в конце XIX - начале XX века
Автор: Турыгин А.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Колониальный контекст исследований всеобщей истории
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Анализируется пангерманская агитация в отношении колониальной политики Германии в Китае (конец XIX - начало ХХ в.). Характеризуются германо-китайские дипломатические отношения в контексте утверждения немецкого колониального присутствия в Цзяочжоу, роль и значение Пангерманского союза в формировании имперского колониального дискурса. Основные тезисы касаются развития общественного мнения в Германии в отношении колониальной политики с участием Пангерманского союза. Идеи жизненного пространства, расового превосходства, имперского могущества, активно развиваемые во второй половине XIX в., были переработаны в идеологию общественных радикально-националистических объединений эпохи вильгельминизма, которые систематизировались в контексте пангерманизма. Германская колония в Цзяочжоу должна была стать «образцовой колонией», отражающей намерение немецкой элиты конкурировать с уже существующими колониальными империями, а не воевать, как прежде, с местным туземным населением Африки и Азии, равно как и с правительствами слаборазвитых в экономическом и политическом отношении стран. Идея приобретения колонии в Китае нашла широкий резонанс в немецком обществе, выразив интересы той его части, которая была заинтересована в активном колониализме. Для Пангерманского союза, который возвел активный колониализм в ранг своих первостепенных задач, приобретение китайской колонии стало не только делом чести, но и средством влияния на правительство рейха. Выражая интересы имущего и образованного класса (Besitz und Bildung), а также части высокопоставленной элиты, Пангерманский союз обладал достаточной возможностью влиять на общественное мнение за счет контролируемых им средств массовой информации. Более того, научно-академический потенциал и журналистский опыт наибольшей части членов Пангерманского союза позволяли не только влиять, но и создавать это мнение. В контексте пангерманизма происходила структуризация разрозненного прежде колониального движения, ставшего, благодаря усилиям Пангерманского союза, одним из ведущих факторов общественного мнения.
Колониальная политика, империализм, китай, пангерманский союз, агитация, общественное мнение, пропаганда, раса, жизненное пространство, военно-морской флот
Короткий адрес: https://sciup.org/147246490
IDR: 147246490 | УДК: 9.94(4) | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-18-27
Текст научной статьи Пангерманская агитация и Китай: о задачах германской колониальной политики в Китае в конце XIX - начале XX века
С момента немецкой оккупации китайского залива Цзяочжоу в 1897 г. руководство Германии рассматривало созданную там военно-морскую базу и прилегающую к ней территорию как часть империи и как экспериментальное поле для совершенствования колониальной политики. В отличие от африканских колоний, которые после «раздела черного континента» в 1880-е гг. заложили основы имперского могущества, китайские владения должны были стать «образцовой колонией». Это в первую очередь связывалось с тем, что древняя империя, которая на протяжении большей части XIX в. уже находилась в колониальной зависимости от европейских народов, обладала развитой колониальной инфраструктурой и менталитетом покоренного народа, чего практически полностью была лишена Африка, где постоянно происходили
межплеменные столкновения, а богатые недра еще только приходилось осваивать. Стремление превратить Цзяочжоу в визитную карточку борющейся за международный авторитет и уважение молодой Германской империи привело к внутреннему восприятию колониализма в Китае не только как к хозяйственно-экономическому, но и как к культурно-политическому проекту. Формального владения территорией было недостаточно; важно было доказать колониальным конкурентам (Великобритании, Франции), что приобретение Цзяочжоу соответствовало идеям европейского миссионерства и популяризации эталонных общеевропейских ценностей, чем другие европейские империи уже оправдывали колониализм в глазах друг друга, в то же самое время новая «колониальная витрина» позволяла демонстрировать всему миру новейшие, в первую очередь военные, достижения, равно как и желание распространить и усилить эффект стандартов немецкого торгового качества («Сделано в Германии»). Такой подход требовал от немецкой общественности не просто одобрительного понимания, но и желания действовать в защиту германских колониальных интересов. Ввиду того что само общество после объединения страны «железом и кровью» в 1871 г. искало основу национальной идентичности, наиболее радикальные его силы, представлявшие интеллигенцию и торговый капитал ( Bildung und Besitz ), связали этот поиск с потребностью в национальной имперской идентичности. Агитация за развитие Цзяочжоу как «образцовой колонии» стала одной из задач такого неполитического общественного объединения, как Пангерманский союз (1891-1939). Этот вопрос представляет актуальность с точки зрения современной историографии, поскольку опыт колониальной политики Германии в Китае уже достаточно хорошо изучен.
Методология и методы исследования
Методологическую основу исследования составили историзм, системность и объективность при обосновании тенденций развития общественного мнения, интеллектуальной и политической атмосферы, в которой происходило формирование новых целей германского колониализма.
Теоретико-методологическая основа учитывает специфику предмета исследования, который позволяет сочетать междисциплинарную проблематику (колониальный имидж) и интеллектуальную историю (обоснование китайского колониализма в трудах пангерманцев).
Из истории германо-китайских дипломатических отношений
Политические и экономические отношения между Китаем и Германией началась во второй половине XIX в. Если не считать нескольких культурных контактов, ранее между двумя странами практически не было прямых связей. Это отличало Германию от Великобритании, которая после завершения Опиумных войн решительно перешла к реализации в Китае своих колониальных планов. Кроме получения контрибуции и территориальных уступок на владение Сянганом (1842), Великобритания приобретала привилегию наибольшего благоприятствования в торговле Китая (1843), т.е., если Китай предоставлял торговые или таможенные льготы какому-либо другому государству, Великобритания тоже автоматически их получала. Учрежденные по условиям Нанкинского договора (1842) концессии (от лат. «уступка») создали правовую инфраструктуру, которую промышленно развитые страны, благодаря прогрессу своей военной и экономической мощи, использовали для усиления своего господства над Китаем и ограничения его суверенитета.
Поражение Китая в Опиумных войнах и перспективы открытия многообещающего рынка сбыта с помощью конкуренции европейских держав побудили желание немцев, преимущественно из рейнских провинций Пруссии, начать экономическое проникновение в страну [Martin, 1991]. С середины XIX в. Пруссия стремилась к политическому и экономическому объединению Германии под своим руководством и была заинтересована не только в том, чтобы быть ведущей державой Германского таможенного союза, но и в том, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, завоевав авторитет активной колониальной политикой, поставив себя в ряды великих держав и подчеркнув свою значительную внутриполитическую гегемонию. Рудольф фон Дельбрюк (1817-1903), ставший в 1848 г. директором прусского Министерства торговли, записал в своих мемуарах: «Наше новое министерство понимало, что, не нанося ущерба нашим материальным интересам и нашему положению в Европе, мы не можем терять времени на то, чтобы только пользоваться уступками по договорам, полученным тремя другими морскими державами» (Delbrück, 1905, S. 177).
В августе 1859 г. прусский кабинет принял решение о формировании восточноазиатской экспедиционной эскадры, известной как Эйленбургская экспедиция (названа по имени ее руководителя графа Фридриха цу Эйленбурга), которая должна была установить дипломатические отношения с Китаем, Японией и Сиамом, а также изучить и оценить новые экономические возможности для Пруссии и государств Таможенного союза. Экспедиция, проведенная вооруженным прусским флотом с 1859 по 1862 г., привела к заключению договоров о торговле и морском судоходстве в Восточной Азии: с Японией - 24 января 1861 г., с Китаем - 2 сентября 1861 г. и с Сиамом - 7 февраля 1862 г. [ Stoecker , 1958, S. 55].
Длительные переговоры с Китаем привели к заключению неравноправного Тяньцзиньского договора с Пруссией, предоставившего ей в односторонней и неограниченной форме с оговоркой о наиболее благоприятствуемой нации, по существу, те же торговые и экстерриториальные права, как Франции и Великобритании. Это позволило Пруссии иметь консульскую юрисдикцию, открыть миссию в Пекине и торговые представительства в портовых городах, право заниматься свободной миссионерской деятельностью, низкие торговые пошлины ( Berg , 1873, S. 398), что привело к активизации экономических отношений и последующему торговому подъему. Китай стал крупнейшим иностранным покупателем немецкого вооружения, а компания Krupp из Эссена возглавляла список его поставщиков. Кроме того, Германия постепенно становилась конкурентом Великобритании и Франции в морском судоходстве между Европой и Китаем. В 1869 г. Пруссия учредила «Восточноазиатскую корабельную станцию», разместив свои военные корабли в Восточной Азии, а с 1885 г. правительство Германии создало субсидируемую государством пароходную линию Имперской почты, чтобы облегчить закупку многих видов сырья [ Boelecke , 1970, S. 59-60, 64].
Экономический рост в Германии в 80-90-е гг. XIX в., сопровождавшийся внедрением научно-технических достижений в сельское хозяйство и промышленность, а также благоприятная таможенная политика Бисмарка придали экономике страны мощный импульс. Уже к середине 90-х гг. XIX в. Германия занимала второе место в торговле с Китаем после Великобритании как по объему внешней торговли, так и по численности персонала торговых компаний [ Reinhard , 1988, S. 105].
С этим экономическим подъемом было связано увеличение экспорта за границу. Так, например, поставки оружия и боеприпасов в Китай способствовали колоссальному буму немецкой военной промышленности после основания рейха. Министерство иностранных дел призвало немецкие банки создать собственные представительства в Китае. В 1889 г. был основан «Немецко-Азиатский банк» со штаб-квартирой в Шанхае, в создании которого участвовал консорциум крупных немецких банков ( Disconto-Gesellschaft , Deutsche Bank , Darmstädter Bank , Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG ). Он должен был не только обслуживать торговлю, но и добиться контроля над железнодорожной отраслью вместе с инвестированием речного и морского судоходства, что усилило бы позиции рейха в Китае.
Проникновение немецкого капитала в Китай привело к значительному увеличению немецкого присутствия в стране: в 1849 г. в Китае проживало 33 немца, в 1872 г. их число возросло до 487 чел., в 1897 г. - до 950 чел., а в 1913 г. - до 2949 чел. [ Stoecker , 1958, S. 45].
С момента проникновения немцев в Китай германо-китайские отношения определялись в основном экономическими интересами, но после отставки Бисмарка и коронации Вильгельма II произошли далеко идущие перемены: «новый курс» кайзера, направленный на завоевание колоний и расширение сферы экономических интересов, имел целью превратить Германию в великую мировую державу. «Глобальная политика как задача, всемирное могущество как цель, флот как инструмент», - таков был девиз кайзера [Gall, Hein, 1996, S. 227]. Для него военноморское строительство было делом чести, что неизбежно вело к столкновению с Великобританией. Понимая это, статс-секретарь по иностранным делам Бернхард фон Бюлов произнес в парламентских дебатах свою знаменитую речь о том, что «не желая никого затмевать, мы все же требуем своего места под солнцем» (Bülow, 1897, S. 8). Демонстрация силы и военного пре- восходства Германии в Китае состоялась месяцем ранее. Затянувшиеся ввиду неуступчивости Китая переговоры об аренде Цзяочжоу с портовым городом Циндао были нарушены инцидентом, в ходе которого были убиты два немецких миссионера. Прежде чем китайское правительство узнало об убийстве, начальник Восточноазиатской дивизии контр-адмирал Отто фон Ди-дерихс (1843-1918) получил императорский приказ о проведении оккупации. Последующие кратковременные переговоры закончились арендой провинции на 99 лет.
Другой не менее эпатажной акцией с участием Франции и России для Германии стал знаменитый поход в Китай, направленный на подавление Ихэтуаньского (Боксерского) восстания (1899-1901). Немецкий кайзер Вильгельм II немедленно отреагировал на предложение европейских государств о совместных военных действиях, поскольку это могло продемонстрировать возросшую роль Германского рейха в мировой политике. 27 июля 1900 г. он произнес свою знаменитую Гуннскую речь: «Вас ждет великая задача: вам предстоит искупить случившуюся серьезную несправедливость. Китайцы ниспровергли международное право, они пренебрегли святостью посла, обязанностями гостеприимства беспрецедентным в мировой истории образом. Это тем более возмутительно, что это преступление было совершено народом, гордящимся своей древней культурой. Докажите старую прусскую эффективность, покажите себя христианами, радостно перенося страдания, пусть честь и слава следуют за вашими знаменами и оружием, подайте пример дисциплины и дисциплины всему миру. [...] Если вы предстанете перед врагом, он должен быть повержен. Пощады не давать! Пленных не брать! [...] Точно так же, как гунны сделали себе имя тысячу лет назад при своем короле Этцеле [...], Германию должны запомнить в Китае» [ Görtemaker , 1996, S. 357].
С 1895 по 1902 г. правительство Германии вело интенсивную колониальную политику: концессия в Ханькоу, в Тяньцзине (1895), оккупация Цзяочжоу (1897) и аренда бухты с городом Циндао (1898), где была создана военно-морская база, строительство железных дорог и добыча полезных ископаемых в Шаньдуне. Участие в подавлении Ихэтуаньского восстания и подписание «Протокола 1901 года» стали кульминацией экспансивной колониальной политики Германской империи в Китае. Агрессивная фаза германской политической экспансии в Китае, начавшаяся с интервенции, закончилась только к началу Первой мировой войны. Политика рейха изначально была направлена на отстаивание экономических интересов, что определяло развитие дипломатических отношений между двумя государствами с 1902 г. до их разрыва в 1917 г.
Пангерманизм
Формирование имперского дискурса в Германии происходило в конце XIX – начале ХХ в. благодаря в том числе активной деятельности, которую развернул Пангерманский союз. Проведение активной колониальной политики было едва ли не самым главным требованием пангерманцев, зафиксированным во всех принципиальных программных заявлениях.
Образование Пангерманского союза было отмечено массово разошедшимся призывом «Германия, проснись!» [ Bonhard , 1920, S. 60], опубликованным сразу же после подписания англо-германского договора о совместных колониальных уступках. Поскольку, по мнению немецкой общественности, договор был неравноправным ввиду обмена больших территорий в Восточной Африке на маленький остров Гельголанд в Северном море («обмен брюк на пуговицу» (Helgoland, 1914)), что тем не менее соответствовало стратегическим замыслам правительства рейха, за листовкой последовал призыв собраться и основать Всеобщий германский союз ( Allgemeiner Deutscher Verband ) 9 апреля 1891 г. в Берлине. 1 июля 1894 г. он был преобразован в Пангерманский союз ( Alldeutscher Verband ) [ Bonhard , 1920, S. 8-9].
Слово «пангерманский», заимствованное из «Немецкой военной песни» 1841 г., указывает на расширение и конкретизацию термина ( allgemein – «всеобщий»), применимого теперь как для обозначения немцев, живущих в пределах имперских границ ( Reichsdeutsche ), так и для немцев за пределами рейха ( Alldeutsche ). У пангерманцев он приобрел специфический смысл -как «особо преданный патриотизму» [ Kruck , 1954, S. 223].
Как ассоциативное объединение, которое служит интересам немецкого народа, Пангерманский союз оказался чужд партийным разногласиям и классовым различиям. По этим при- чинам он не стремился осуществлять политическую власть непосредственно в парламенте, а видел свою основную сферу ответственности в прямом влиянии на общественность в национальном смысле. Он подчеркивал свою беспристрастность, хотя с годами занимал все более четкую позицию в отношении социал-демократов, либералов или партии Центра, которых стремился ослабить, как опасных для немецкого народа.
Цели Пангерманского союза были окончательно закреплены в уставе 1903 г., и эта формулировка оставалась в силе до конца Первой мировой войны: «Пангерманский союз стремится возродить немецкие национальные чувства, в частности пробудить и сформировать сознание расовой и культурной солидарности всего немецкого народа. Эта задача подразумевает, что Пангерманский союз выступает: 1) за сохранение и поддержку немецкого народа в Европе и за морем; 2) за решение образовательного, воспитательного и школьного вопросов в интересах немецкого народа; 3) за борьбу всеми силами с тем, что тормозит национальное развитие; 4) за активную политику во всем мире в интересах немцев, в частности за практическую реализацию целей германского колониального движения» [ Werner , 1935, S. 47-48].
Для достижения этих целей Пангерманский союз тесно сотрудничал с другими организациями национал-радикальной ориентации: Германским флотским союзом, Германским обществом Восточной марки, Германским военным союзом, Германским колониальным обществом и др.
После разногласий с правительством рейха, к 1903 г. Пангерманский союз трансформировался в ядро «национальной оппозиции». Этому во многом способствовала радикализация пангерманской идеологии, основу которой составило антагонистическое разделение мира на «плохих» и «хороших» по расовому признаку. Отказываясь от каких бы то ни было компромиссов, свойственных правительству, на съезде в Плауэне 12 сентября 1903 г. пангерманцы решили агитировать за наделение кайзера диктаторскими полномочиями и инициацию войны, способной очистить правительство от «врагов» немецкого народа. Ставка была сделана на импульсивный характер Вильгельма II, личные амбиции которого были хорошо известны, поскольку связывались с победоносной войной, а также правительство, которое постоянно находило способы обуздать нравы кайзера [ Hering , 2003, S. 126-127].
Резкая критика правительства обернулась для пангерманцев сокращением численности самой организации, что потребовало внесения изменений в программу Пангерманского союза [ Chickering , 1984, р. 229]. Из элитарного объединения немецких интеллектуалов Пангерманский союз постепенно трансформировался в массовую организацию, что стало актуальным после поражения в войне и крушения монархии. Новые принципы и цели Пангерманского союза, обращенные преимущественно к альтернативам государственного развития, были сформулированы уже в период Веймара.
Пангерманская агитация
Китайская риторика Пангерманского союза развивалась вокруг нескольких центральных тезисов. Главным из них был тезис об имперском могуществе Германии наряду с остальными великими державами. Приобретение собственной колонии Цзяочжоу превозносилось едва ли не как героический акт, не имевший аналогов с момента основания рейха. Особая гордость, по мнению лидера пангерманцев Эрнста Хассе (1846-1908), проистекала из того, что если прежде немцам приходилось воевать в основном с туземцами (Германская Восточная Африка – с 1885 г.), то захват колонии в Китае стал результатом конкуренции с Великобританией, актом, которому «в свое время аплодировали не только наши колониальные друзья, но и колониальные враги» ( Hasse , 1908, S. 62).
Один из идеологов пангерманизма граф Эрнст цу Ревентлов прямо указал на «невероятную ценность» и «наибольшую значимость» Цзяочжоу, как «военно-морской базы, опорного пункта и угольной станции» ( Reventlow , 1908, S. 39). Перед немецким флотом, охранявшим колонию, стояла важнейшая задача «нести имперский флаг, оказывать поддержку живущим там немцам, вмешиваться в случае беспорядков и восстаний, наказывать пиратов, короче говоря, делать все, что в их силах, чтобы защитить германство и быть опорой немецкой торговли» [Ibid.].
Идея защиты германства и содействия немецким торговым интересам выходила за рамки дипломатических соглашений, в сторону дальнейшего проникновения в Китай и установления контроля над ведущими промышленными отраслями. На страницах пангерманской периодической печати стали появляться призывы к разделу сфер влияния в Китае: «Теперь у нас имеется весомый предлог для того, чтобы ругаться с господами китайцами нецензурными выражениями и, используя эти обстоятельства, требовать раздела территории» (Alldeutsche Blätter, 1897).
Воодушевление пангерманцев отражало общий эмоциональный фон. Цзяочжоу должен был стать образцовой немецкой колонией [ Leutner , 1997]. Из-за своей основной функции военно-морской базы колония находилась в ведении не Имперского управления по делам колоний, а Управления Имперского флота. Во главе колонии стоял губернатор (всегда морской офицер), который подчинялся непосредственно Альфреду фон Тирпицу. Кроме военной, в пределах охраняемой территории находилась и гражданская администрация во главе с комиссаром. Он, как и все ведомства колонии (финансовое, строительное, медицинское, почтовое), подчинялся непосредственно губернатору. Колония, которая должна была быть образцовой, предназначалась в первую очередь для ведения пропаганды, где большое значение придавалось экономическому и культурному развитию. В период немецкой колонизации было основано 26 начальных школ, 1 государственная школа, 10 миссионерских школ, специальный колледж и 4 профессионально-технических училища. К 1914 г. столица колонии, бывшая рыбацкая деревня Циндао, насчитывала более 60 тыс. жителей, имела естественную гавань, питьевую воду и пивоварню. Город был подключен к телеграфной и железнодорожной сети.
Ожидания, которые пангерманцы и воодушевленная колониальным успехом общественность связывали с Цзяочжоу, очень быстро рассеялись, когда стало понятно, что колония быстро становится финансовой ямой. За первые десять лет после основания колонии субсидии рейха составили около 100 млн рейхсмарок, в то время как общий суммарный доход не превысил даже десятой части от вложенной суммы (Kiautschou, 1913).
Не желая потерять лицо и доверие немцев, лидер пангерманцев Эрнст Хассе попытался найти оправдания. Спустя 10 лет с момента навязанной Китаю аренды колонии, рассуждая об империализме, он отметил, что внутренние и внешние враги рейха распространяют мысль об ошибке, допущенной в связи с Цзяочжоу ( Hasse , 1908, S. 62). Не соглашаясь с этим утверждением, Хассе как опытный чиновник-статист все же не мог полностью игнорировать цифры, отражавшие карту торгового баланса. Лидер пангерманцев стремился переложить ответственность на правительство, делая это весьма изящно на страницах своего многотомного исследования немецкой политики. Он отмечал: «Наши колонии были изначально неверно названы “охраняемыми территориями”, а не “областями оседлости” или “областями культивации”, что свойственно самому термину “империализм”. Примером этому является случай с Цзяочжоу, названным “охраняемой территорией”, хотя его завоевание было примером империализма. Мы не смогли создать там немецкую провинцию или “область оседлости” для немецких поселенцев. Мы не можем производить там колониальные товары, такие как хлопок, табак, кофе или каучук. Мы не имеем там полных суверенных прав, а исключительно арендованную площадь сроком на 90 лет. […] Цзяочжоу – лишь опорный, хотя и защищенный пункт для немецкой торговли, […] владение которым осуществляется по милости англичан, а сегодня зависит от благосклонности японцев» (Ibid., S. 61-62).
Подтверждением тому, по мнению Хассе, является удар по авторитету германской монархии в связи с действиями Восточноазиатской эскадры под общим командованием контрадмирала Отто фон Дидерихса. В составе эскадры, в формировании которой принял участие лично кайзер Вильгельм II, одним из командующих несколькими оперативными военноморскими группами был его родной брат принц Генрих Прусский (1862-1929). 16 декабря 1897 г. его 2-я крейсерная дивизия отправилась из Киля в Китай для усиления эскадры фон Ди-дерихса. Достигнув берегов Китая, дивизия принца была остановлена английским флотом и, только получив санкцию, смогла достичь Циндао. Этот факт вместе с усилением японского присутствия в Китае после Русско-японской войны (1904-1905), в том числе на Тайване, позволил Хассе утверждать об ограниченном господстве рейха в Восточной Азии.
Опубликованные на страницах пангерманской газеты Alldeutsche Blätter несколькими годами позже пространные статьи Фрица Флитнера и Карла Феликса Вольфа логически связывают мысль Хассе об ограниченном империализме с расовым вопросом – еще одним предметом пангерманской агитации (Alldeutsche Blätter, 1913, Nr. 38).
Рассуждая о том, что «внимание всех сейчас приковано к расовому вопросу» (Флитнер) (Ibid., S. 322), что у европейских держав уже есть «опыт рассмотрения мира с расовополитических позиций», а теперь пришло время понимать всемирную историю как «историю борьбы между господствующими расами за новые территории» (Вольф) (Alldeutsche Blätter, 1913, Nr. 50, S. 434), пангерманские авторы указали на проблемы немецкой колонизации: «С биологической точки зрения завоеватели действуют логично только в том случае, если они вытесняют чуждый язык и разрушают чужую национальность. […] Поэтому никаких попыток примирения, а хладнокровный суверенитет, максимально возможное проявление силы и строгое сохранение всех политических прав!» (Alldeutsche Blätter, 1913, Nr. 35, S. 283-285).
О том, что китайцы для пангерманцев представляли пример низшей расы, писал еще Теодор Райсман-Гроне (1863-1949), один из главных публицистов Пангерманского союза, журналист, редактор и владелец эссенской газеты Rheinisch-Westfälische Zeitung и некоторых других берлинских изданий. Рассматривая немцев как представителей высшей расы, которой предначертана роль в осуществлении особой культурной миссии, он писал: «Немцы – аристократический народ, который должен нести высшую культуру другим народам, иначе моральное превосходство немецкого чувства справедливости и честность как ценность немецкого характера останутся для мира зарытым сокровищем. […] Это важно, так как в мире можно встретить бесчисленное количество поляков, словаков, венгров, итальянцев, китайцев - не говоря уже о других низших расах - в угнетенном экономическом положении, часто вырождающимися как внешне, так и внутренне. […] Всякий немец, напротив, выделяется из своего иностранного окружения морально, интеллектуально и также экономически, делая это сразу, как только заступает на землю другой страны. [...] Немец способен делать все, что соответствует высшей расе, поэтому он заслуживает роли завоевателя» ( Reismann-Grone , 1899).
Восприятие китайцев как людей второго сорта, активно распространявшееся в немецком обществе, не могло не повлиять на отношение к ним немцев в самой колонии Цзяочжоу. В «Общих правилах поддержания безопасности и порядка» от 14 июня 1900 г. было указано:
-
«§ 5. С 9 часов вечера до восхода солнца ни один китаец не может выйти на улицу без зажженного фонаря или без специального уведомления.
-
§6 . Любое китайское уведомление или прокламация, которые должны быть размещены на домах или иным образом публично на улице, требуют одобрения комиссара по делам Китая […].
-
§7 . Любая встреча или консультация, кроме религиозной, требует прямого одобрения имперского губернатора […].
-
§8 . Следующее также требует одобрения имперского губернатора:
-
а) общественные проезды по улицам городской территории, за исключением свадебных и похоронных процессий;
-
б) запуск фейерверков;
-
в) театральные постановки и временные театральные постройки (заявка должна сопровождаться подробностями и названиями пьес, которые должны быть поставлены).
-
§9 . Все петиции, кроме исковых заявлений в суд, должны быть адресованы имперскому губернатору и поданы в Канцелярию комиссара по делам Китая» (Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung, 1901, S. 207).
Заключение
Пангерманский союз, который кристаллизовался как внепарламентская «национальная оппозиция умеренному правительственному консервативному партийно-политическому истеблишменту» [Eley, 1992, р. 21], своей колониальной риторикой способствовал формированию имперского дискурса, потребность в котором обнаружила себя почти сразу после образования рейха. Используя новые теории геополитики о жизненном пространстве и земельном голоде, шовинистские и расистские идеи, активно распространявшиеся европейскими интеллектуалами во второй половине XIX в., колониальные противоречия в политике великих держав, пангерманцы попытались структурировать разрозненные националистические группы и объединения Германии в единое движение.
Опыт участия Германии в китайских колониальных делах оказался для пангерманцев очень ценным, поскольку он стал результатом прямой конкуренции с ведущими колониальными империями. Прежде немцы захватывали колонии, сталкиваясь преимущественно с местными народами Африки или правительствами тех стран, которые не могли конкурировать с промышленно развитой и экономически благополучной Германией. Колониальные приобретения рейха эпохи Бисмарка становились преимущественно прямым следствием экономических интересов. Эра вильгельминизма провозгласила принципиально новый подход к колониальным делам. Речь стала вестись о Великой Германии, немецкой чести и уникальной культурной миссии, оправдывающей колониальные захваты. Приобретение колонии в Китае, которой надлежало стать «образцовой», должно было работать на международный имидж и престиж Германии. Пангерманская колониальная агитация, ориентированная на эту задачу, также имела своей целью формирование общественного мнения внутри рейха. Решение этой задачи, учитывая высокую публикационную активность именно внутри страны (публикация пангерманских листовок, покупка массовых периодических изданий), было обусловлено стратегическими целями, связанными с прямым воздействием на правительство рейха.
Список литературы Пангерманская агитация и Китай: о задачах германской колониальной политики в Китае в конце XIX - начале XX века
- Boelecke W. A. Krupp und die Hohenzollern in Dokumenten. Krupp-Korrespondenz mit Kaisern, Kabinettschefs und Ministern 1850-1918. Frankfurt am Main, 1970. 288 S.
- Bonhard O. Geschichte des Alldeutschen Verbandes. Leipzig-Berlin, 1920. 291 S.
- Chickering R. We Men Who Feel Most German: A Cultural Study of the Pan-German League, 1886-1914. Boston: George Allen & Unwin, 1984. 382 p.
- Eley G. German History and the Contradictions of Modernity. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992.43 p.
- Gall L., Hein D. Fragen an die deutsche Geschichte. Wege zur parlamentarischen Demokratie. Historische Ausstellung im Deutschen Dom in Berlin. Bonn, 1996. 456 S.
- Görtemaker M. Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung. Bd 274. Opladen, 1996. 357 S.
- Hering R. Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939. Hamburg: Hans Christians Verlag, 2003.600 S.
- KruckA. Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890—1939. Wiesbaden, 1954. 258 S.
- Leutner M. Musterkolonie Kiautschou. Die Expansion des Deutschen Reiches in China. DeutschChinesische Beziehungen 1897—1914. Eine Quellensammlung. Berlin, 1997. 568 S.
- Martin B. Die preußische Ostasienexpedition nach China. Zur Vorgeschichte des Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts-Vertrages vom 2. September 1861 // Deutsch-Chinesische Beziehungen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München, 1991. S. 209—240.
- Reinhard W. Geschichte der europäischen Expansion. Bd. 3. Die Alte Welt seit 1818. Stuttgart: Kohlhammer, 1988. 264 S.
- Stoecker H. Deutschland und China im 19. Jahrhundert. Das Eindringen des deutschen Kapitalismus. Berlin, 1958. 307 S.
- Werner L. Der Alldeutsche Verband 1890—1918 // Historische Studien. Heft 278: Ein Beitrag zur Geschichte der öffentlichen Meinung in Deutschland in den Jahren vor und während des Weltkrieges. Berlin, 1935. S. 47—48.