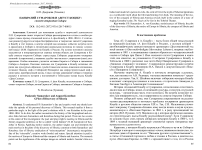Панкратий Сумароков и Август Коцебу: сюжет открытия Сибири
Автор: Дворцова Наталья Петровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (43), 2017 года.
Бесплатный доступ
Ключевой для понимания судьбы и творческой деятельности П.П. Сумарокова сюжет открытия Сибири рассматривается в статье в особом ракурсе: сквозь призму отношений поэта с А. фон Коцебу в 1800-1804 гг. С этой целью рекон-струируется история биографических и творческих связей Сумарокова и Коцебу в этот период, в центре которой два основных события: встреча поэта и драматурга в Сибири и литературно-журнальная полемика по поводу «страшной моды» (Н.М. Карамзин) на Коцебу в России. На основе мотивного анализа выделяются и интерпретируются глав-ные мотивы общего для Сумарокова и Коцебу сюжета открытия Сибири: страха перед Сибирью; разрушения «неверных понятий» (стереотипов); узнавания; судьбы «несчастных»; творчества (книг); возвращения. Особое внимание уделяется мотивам Европы в Сибири и завоевания Сибири и Америки. Показано значение для Сумарокова и Коцебу античных образов как культурных образцов: судьба Сенеки как модель поведения изгнанника, изгнание Овидия, миф о Сибирской Иппокрене как мироустроительный миф о книге-реке, преобразующей жизнь. Смысл мотива завоевания Сибири и Америки раскрыт в контексте истории с постановкой в Тобольском театре пьесы Коцебу «Дева Солнца».
П.п. сумароков, а. фон коцебу, воспоминания о сибири, сюжет открытия сибири, мотив европы в сибири, завоевание сибири и америки
Короткий адрес: https://sciup.org/14914672
IDR: 14914672 | DOI: 10.24411/2072-9316-2017-00015
Текст научной статьи Панкратий Сумароков и Август Коцебу: сюжет открытия Сибири
К постановке проблемы
Тема «П. Сумароков и А. Коцебу» - часть более общей темы русской (и немецкой) культуры «А. фон Коцебу в России», у истоков которой -автобиографические записки немецкого драматурга «Достопамятный год моей жизни» («Das merkwurdigste Jahr meines Lebens»), впервые опубликованные в 1801 г. и посвященные главным образом его четырехмесячной ссылке в Сибирь при Павле I. Имя ссыльного поэта Сумарокова в книге этой, как известно, не упоминается. О встречах Сумарокова и Коцебу в Тобольске в 1800 г. рассказал сын поэта Петр Панкратьевич Сумароков в «Записках отжившего человека»1. Современную реконструкцию встречи Сумарокова и Коцебу предпринял В.А. Павлов в документальной «Повести о Панкратии Сумарокове»2.
Изучение творчества А. Коцебу в контексте литературы ссыльных, или, как называл их А.Н. Радищев, «путешественников поневоле»3 традиционно для науки. Так, К. Штайнке включает сибирские мемуары Коцебу в контекст «литературы пленных и ссыльных» от протопопа Аввакума до Евгении Гинзбург и Александра Солженицына4.
История отношений Коцебу и Сумарокова, позволяющая сопоставить два взгляда на Сибирь: извне, из немецкой культуры, и изнутри, из русской культуры, - органическая часть этого контекста. Их встреча позволяет понять как инвариантность, так и вариативность сюжета открытия Сибири.
Помимо сибирской темы, имя Сумарокова современными исследователями рассматривается в контексте проблемы восприятия драматургии Коцебу в русском обществе начала XIX в. Так, С.И. Мельникова упоминает эпиграмму Сумарокова «Блажен, кому всегда печаль и скука чужды», напечатанную в «Вестнике Европы» за 1804 г, в ряду произведений тех авторов (В.Л. Пушкин, А.Н. Нахимов и др.), которые критически оценивали «трогательные» пьесы Коцебу на российской сцене5. Если Сумарокову не суждено было стать героем сибирских мемуаров Коцебу в 1800 г, то в 1804 г. модный немецкий драматург становится героем эпиграммы вернувшегося из ссылки поэта.
Карамзин, с которым Коцебу встречался в Москве по пути из Сибири в Петербург и которого в мемуарах назвал «очень уважаемым писателем, известным даже в Германии по его “Письмам русского путешественника”», в статье «О книжной торговле и любви к чтению в России» в девятом выпуске «Вестника Европы» за 1802 г. с иронией пишет о том, что в России
«теперь в страшной моде Коцебу»6. В первых трех выпусках «Вестника Европы» за 1804 г, когда редактором журнала становится вернувшийся из ссылки Сумароков, появилось три публикации, в которых критически оценивались пьесы Коцебу и мода на него в России7. Эпиграмма Сумарокова, продолжающая тему, появится в 19-м выпуске «Вестника Европы» за 1804 г.
Тема «Сумароков и Коцебу» включает в себя, таким образом, два очевидных сюжета: 1) встреча писателей в сибирской ссылке; 2) литературножурнальная полемика, связанная с модой на Коцебу в России, в которой в 1802-1804 гг. участвует журнал «Вестник Европы» под руководством ELM. Карамзина (1802-1803) и П.П. Сумарокова (1804).
В теме этой, с нашей точки зрения, есть и неочевидный, глубинный смысл, связанный с открытием того, чем была Сибирь для Сумарокова, не оставившего о пребывании в этом крае таких подробных мемуаров, как Коцебу. Изучение именно этого глубинного смысла является конечной целью данной статьи, посвященной прежде всего сюжету открытия Сибири Сумароковым и его личности, как они раскрываются в истории «встречи» поэта с Коцебу в 1800-1804 гг.
Теоретико-методологическим обоснованием такого подхода является идея М.М. Бахтина о том, что «смысл потенциально бесконечен, но актуа-лизоваться он может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим) смыслом. <.. > Ele может быть “смысла в себе” - он существует только для другого смысла, то есть существует только вместе с ним».8
С этой точки зрения очевидно, что понять место Сумарокова в сибирском тексте русской литературы можно лишь в контексте творчества тех его современников (Д.В. Корнильев, Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев, П.А. Словцов и др.), жизнь и произведения которых так или иначе связаны с Сибирью. У Коцебу в этом контексте особая роль.
Мотив страха перед Сибирью
Изначальным мотивом в сюжете открытия Сибири как для Сумарокова9, так и для Коцебу является мотив страха, ужаса и тому подобных чувств, с которыми связан образ края. Коцебу так описывает свое состояние после известия о том, что его везут не в Петербург, а в Тобольск: «В Тобольск?! - При этом слове я задрожал всем телом и едва не упал... Быть заживо погребенным в Сибири... В Сибири!»10 [далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы в квадратных скобках].
Страх сопровождает Коцебу на протяжении всех четырех месяцев пребывания в России, это лейтмотив мемуаров немецкого драматурга.
Он рассказывает о смутных опасениях, преследовавших его и его жену перед поездкой в Россию, которой он, по его словам, «служил шестнадцать лет честно и добровольно» [с. 14,21]. Страх преследовал его в Петербурге после возвращения из ссылки. «Несмотря на столько видимых и красноречивых доказательств расположения ко мне государя, ужас до того овладел моею душою, что я не мог видеть без сильного волнения сенатского курьера или фельдъегеря. Я не отваживался съездить в Гатчину не взяв с собою порядочного количества денег и не будучи готовым отправиться вторично в ссылку», - пишет Коцебу [с. 229-230]. Коцебу чувствовал страх в атмосфере Петербурга, где «стены слушали и брат не мог положиться на брата» [с. 236], поэтому он при первой же возможности уезжает из России, чтобы жить «совершенно свободно и вдали от всякого страха и опасности» [с. 227].
В мемуарах Коцебу страх приобретает тотальный характер: не только европеец Коцебу боится России, но и Россия боится Европы. Так, Коцебу пишет о том, что в Петербурге он «не имел возможности достать себе книг <...> почти все книги были запрещены» [с. 236]. Речь идет о запрещении в 1800 г. императором Павлом I ввоза в Россию иностранных книг, отмененном Александром I.
Разрушение «неверных понятий» (стереотипов)
Стереотипные представления или, как говорит Коцебу, «неверные понятия» о Сибири разрушаются у него по мере продвижения к месту ссылки. Страх сменяется иными чувствами, вплоть до восхищения. Ему нравятся «молодые березняки и обширные поля, очень плодородные и хорошо возделанные, богатые деревни». Он замечает, что крестьяне здесь имеют «довольный вид, особенно в праздничные дни» [с. 103]. Коцебу восхищают Тобольск и его «очень живописные окрестности» [с. 107]. Курган, где ему предстояло отбывать ссылку, действительно предстает в его записках «Сибирской Италией». Его рассказы о великолепных летних днях, проведенных им в Кургане, окрестности которого «усеяны самыми красивыми цветами», о прогулках по берегам Тобола и охоте на бекасов и диких уток сегодня можно включать в путеводитель для туристов, путешествующих по Сибири.
Коцебу изумлен и восхищен не только красотой и богатством Сибири, но и приемом, оказанным ему в Кургане, в Тобольске, и в частности тем, какой известностью пользовалось здесь его имя [с. 111]. Губернатор Д.Р. Кошелев (у Коцебу - Кушелев), у которого ссыльный драматург «почти каждый день обедал» и который немало сделал для облегчения участи знаменитого немца, прочитал все произведения Коцебу, переведенные на русский язык [с. 108, 109].
В местном театре, к изумлению Коцебу, с большим успехом шли его пьесы «Дитя любви», «Ненависть и коварство» и готовилась к постановке «Дева Солнца» [с. 132]. В ряду «друзей своей музы» Коцебу нашел и одного из самых близких себе по духу в Тобольске людей - Киньякова. Сын симбирского дворянина, он оказался в Сибири с двумя своими братьями «за то, что они осмелились подтрунивать над императором» [с. 113]. Образованный молодой человек говорил с Коцебу по-французски, уверял его, что неоднократно читал его произведения и высказал автору о них много лестного [с. 113].
Судьба «несчастных»
Главное открытие Коцебу в Сибири - несчастные, так в Сибири называли ссыльных, которые, как замечает Коцебу, пользовались «общественным состраданием» [с. 126]. «Я не слыхал ни разу, чтобы ссыльных звали иначе», - пишет он. Слово «несчастные», утверждает Коцебу, «внушено нежным чувством и убеждением в невиновности» [с. 127].
По мнению Коцебу, «за границею со словами ссылка в Сибирь соединяют... смутные и неверные понятия», поэтому он ставит перед собой задачу разъяснить «отчасти этот вопрос» [с. 127]. Он выделяет и характеризует четыре «разряда» ссыльных и, главное, создает множество портретов «несчастных», в ряду которых и автопортрет самого драматурга, постигающего по мере продвижения в Сибирь глубину собственного несчастья.
Картина жизни ссыльных предстает у Коцебу многосложной и разнородной. Коцебу ужасает судьба колодников, скованных попарно, которых гонят в Иркутск или на нерчинские рудники и которые просят подаяния. «Их наказывают обыкновенно кнутом и вырывают им ноздри. Страдания их хуже смерти», - пишет Коцебу [с. 127]. Его потрясает история сумасшедшего старика, который уже 35 лет живет в Сибири и у каждого вновь приехавшего спрашивает о судьбе своей семьи. Ссыльный Коцебу «краснел от стыда» за свое благополучие при виде несчастья этого старика. Коцебу трогает история барона Соммаруги, оказавшегося в Сибири из-за того, что дрался на дуэли, защищая честь будущей жены, которая «отправилась вслед за мужем, чтобы разделить с ним бедствия» [с. 114].
Коцебу не раз рассказывает о тяготах быта, с которыми он столкнулся во время ссылки. Так, например, он пишет, что отвык пользоваться постелью и ему сделалось «не в диковинку» спать на полу, разложив предварительно шинель [с. 112], что он привык к квартирам с разбитыми стеклами, грязными стенами, множеством насекомых и смрадным запахом [с. 111]. Однако Коцебу постоянно подчеркивает, что страдания его носили прежде всего нравственный характер и были вызваны тревогой за судьбу жены и детей.
После ареста на прусско-российской границе он прошел типичный путь невинно арестованного: от надежды на то, что рассмотрят его бумаги, разберутся и отпустят [с. 78], неудачного побега, мыслей о самоубийстве до принятия своей судьбы. Сосланный в Сибирь «по особому высочайшему повелению» [с. 204], Коцебу почти все время в Тобольске и постоянно в Кургане пользовался, как он пишет, «безграничною свободою» [с. 125]. Образ жизни, который он вел в Кургане, по его словам, включал пробуждение в 6 часов утра, заучивание в течение часа русских слов, завтрак, несколько часов работы над «Историей моих бедствий», прогулки вдоль берегов Тобола, «простой обед», чтение Сенеки, Палласа или Гмелина, охоту на бекасов и диких уток, вечернее чаепитие, скромный ужин, рас- кладывание гран-пасьянса... [с. 150-151].
В 14-летней сибирской ссылке Сумарокова, если представить ее как текст и сюжет, можно выделить те же основные мотивы, что и в четырехмесячной ссылке Коцебу, так подробно им описанной. В ряду этих мотивов, воссозданных в записках сына Сумарокова Петра, - мотивы страха перед Сибирью; узнавания (открытия) ее; творческой деятельности в Сибири (сибирской книги); возвращения домой, в Европу (европейскую часть России).
О жизни Сумарокова в Сибири сын его пишет: «С отчаянием души ехал он туда, но между тем встретил людей, которые умели оценить его ум и дарования, умели отличить проступок молодости от настоящего преступления». Об отношении к ссыльному поэту губернатора Тобольска А.В. Алябьева сказано: «Он полюбил несчастного, как сына». «Сумароков нашел в Сибири приятное общество, умных людей, книги», - пишет Петр Сумароков об отце11.
За время ссылки поэт собрал большую коллекцию минералов и «довольно большую библиотеку», так что из Тобольска в Москву после окончания ссылки пришлось отправлять все это «целым обозом». В Сибири, по мнению П.П. Сумарокова, отец его «пользовался известностью и почетом и привык смотреть на этот край, так приветливо принявший и приютивший его, как на родину»12.
Не только Коцебу, но и Сумароков пользовался в ссылке полной свободой. «Свобода его нисколько не была стеснена и в продолжение своей ссылки он не раз оставлял Тобольск на довольно долгие промежутки. Так, несколько лет провел он в Верхотурье, два года пробыл в Петропавловской крепости», - пишет П.П. Сумароков. Он рассказывает также о поездках отца «на тагильский и некоторые другие чугунно- и медно-плавильные заводы», а также на «знаменитую ирбитскую ярмарку»13.
Основным занятием Коцебу во время ссылки была работа над книгой мемуаров, или, как он пишет, «составление истории моих бедствий» [с. 168]. Главным занятием ссыльного Сумарокова, даже во время его службы воспитателем (1794-1801) в доме купца Алексея Зеленцова14, была его литературная и редакторская деятельность. За годы ссылки под редакцией Сумарокова вышло 24 номера журнала «Иртыш, превращающийся в Ипо-крену», 12 номеров журнала «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей». Кроме того, в Тобольске в переводе Сумарокова напечатана первая сибирская литературно-художественная книга «Училище любви» (1791). В Москве, в Университетской типографии, в 1799-1800 гг. вышли в свет три его книги: «Собрание некоторых сочинений, подражаний и переводов Панкратия Сумарокова» (Ч. 1, 1799); «Совершенный лакировщик» (1799); «Источник здравия» (1800)15. В третьей книжке поэтического альманаха Н.М. Карамзина «Аониды» (1798-1799) напечатана большая подборка стихов ссыльного поэта.
Литературные занятия Сумарокова и Коцебу в ссылке, при всем раз- линии их дарований и индивидуальностей, могут быть объяснены и властью над их судьбами библиофилического культурного мифа, основанного «на абсолютной вере людей эпохи Просвещения в слово»16. Не случайно Коцебу называет своей «священной обязанностью» создание и печатание своих сибирских воспоминаний [с. 8], а о том, что литература стала для Сумарокова спасением после постигшей его личной катастрофы, хорошо известно. Завершением сюжета сибирской встречи Сумарокова и Коцебу стало их творческое противостояние после возвращения из ссылки.
Европа в Сибири
Важнейшая и парадоксальная на первый взгляд идея воспоминаний Коцебу, обычно ускользающая от внимания исследователей, состоит, с нашей точки зрения, в том, что, открывая Сибирь, немецкий драматург открывал в ней Европу. Мысль эта является основной в воспоминаниях сына Сумарокова, Петра Панкратьевича, рассказывающего о том, что «знаменитый в то время немецкий драматург, проезжая через Тобольск, пожелал познакомиться с человеком, который нашел возможность издавать журналы и притом с таким успехом в такой глуши». «Он просидел у нового знакомого целый вечер и на прощание сказал, что хоть он еще далеко от родной Германии, но в этот вечер как бы сразу перенесся в центр Европы»17.
Образ Европы в Сибири (Сибири как Европы) складывается в воспоминаниях Коцебу из множества выразительных деталей. Прежде всего, в Тобольске среди ссыльных он открывает разноязыкий европейский мир: двух французов и одного немца, сосланных «за то, что провезли по двести рублей контрабанды»; четырех поляков, отправленных в Сибирь «за неосторожные политические поступки» [с. 114]; итальянца Росси, осужденного за заговор против командира и жившего в Тобольске уже двадцать лет [с. 124].
Коцебу замечает, что на базарной площади в Тобольске «можно найти множество товаров китайских и европейских», которые «чрезвычайно дороги» [с. 131]. О губернаторе Кошелеве сказано, что он выписывает «франкфуртскую газету», которую обещает каждую неделю отправлять Коцебу в Курган [с. 136]. Несмотря на запрет Павла I ввозить в Россию иностранные книги, в Сибири Коцебу нашел много переводных изданий и, в частности, сочинения Сенеки, послужившие ему, как он пишет, источником утешения. Коцебу делает выписки из Сенеки, учится у него терпению и мужеству, пишет о «сходстве судеб» своей и Сенеки. «Он был также изгнан из родины, был также невинен и томился восемь лет на пустынных скалах Корсики. Описание его положения, сделанное им самим, чрезвычайно напоминало мне мое собственное», - пишет Коцебу. Сенека становится для него идеальной моделью поведения изгнанника [с. 156].
Сумароков в начале ссылки, как и Коцебу, искал утешения в античных образах и мотивах. Однако для него был значим не столько образ изгнанника Овидия, сколько идея превращения Иртыша в Иппокрену, идея пре- ображения Сибири. Античная мифология стала для него не способом осмысления настоящего (как у Коцебу), а моделью будущего. Античный миф трансформировался у Сумарокова в мироустроительный миф о Сибирской Иппокрене, книге-реке, преобразующей жизнь. При всем различии отношений с Античностью, Коцебу и Сумароков едины в признании ее в качестве идеального культурного образца для современности. И в этом смысле Европа для них, даже Европа в Сибири, - общая родина.
Сибирь у Коцебу (и Сумарокова) оказывается, таким образом, не только местом ссылки для европейцев, но и частью европейского культурного пространства. О том, что Тобольск на рубеже XVIII-XIX вв. воспринимался и в действительности был частью европейского культурного и, в частности, книжного пространства, свидетельствует репертуар первой сибирской типографии Корнильевых (1789-1805). Из одиннадцати наименований книг, напечатанных здесь, четыре являются переводными с французского, немецкого, латыни. Первая сибирская литературно-художественная книга «Училище любви», названная переводчиком Сумароковым «английской повестью», является переводом с французского книги немецкого писателя И.Г. Б. Пфейля «Der Triumph der tugendhaften Liebe»; трехтомник английского математика Г. Диттона «Истинна благочестия христианского, доказанная воскрешением Иисуса Христа, с математическою точностию» переведен с немецкого. «Описание растений Российского государства» известного немецкого исследователя и путешественника П.С. Палласа, побывавшего в Тобольске в 1770 г, переведено с латинского его учеником В.Ф. Зуевым.
Завоевание Америки в Сибири
В мемуарах о личном открытии Сибири странно было бы не найти темы завоевания этого края русскими. Коцебу обращается к ней, говоря о жизни татар в современной ему Сибири и о скрытой взаимной ненависти татар и русских. «Слово татарин в здешних местах такое же бранное, как и слово чухонец для несчастных обитателей северных берегов Балтийского моря», - пишет он. «С татарами обращаются самым жестоким и унизительным образом», - замечает Коцебу. Русские воспринимают татар не иначе как рабов и «смеются перед татарами над Магометом» [с. 180]. Градус зла и ненависти со стороны русских доходит до такой степени, что Коцебу встает на защиту татар. «Народ этот, по моему мнению, не заслуживает вовсе того презрения, с которым обращаются с ним русские, покорившие его», - пишет Коцебу [с. 177]. За время пути Коцебу не раз имел возможность «убедиться в глубокой, закоренелой ненависти татар к русским» [с. 180]. При этом он отмечает, что в Сибири «богатые деревни, то русские, то татарские, находятся в близком друг от друга расстоянии» [с. 103].
Картина жизни Сибири, таким образом, предстает у Коцебу внутренне противоречивой. С одной стороны, Сибирь, более двух веков назад заво- еванная русскими, позволяет завоевателям и завоеванным жить мирно и в равной степени богато. С другой стороны, взаимная ненависть русских и татар, проявляющаяся на бытовом уровне, свидетельствует о глубинном внутреннем конфликте сибирской жизни.
На уровне высокой культуры отношение сибиряков к проблеме того, как должны жить на одной земле завоеватели и завоеванные, позволяет понять ситуация с постановкой в Тобольском театре драмы Коцебу «Дева Солнца». В центре драмы - история о всепобеждающей любви перуанки Коры и испанца Алонцо, одного из тех, кто вторгся в Перу и покорил Империю инков, т.е., собственно, завоевал Америку. Самого завоевания в пьесе, как известно, нет, речь идет о его последствиях, суть которых - в торжестве идеи естественной смены старого (перуанского) порядка жизни новым (испанским).
Завоеватель Перу Алонцо влюбляется в Кору и уходит от испанцев к индейцам, которых «любит, как братьев»18, но нарушает закон индейцев, соблазнив Кору, давшую клятву служения Солнцу как супругу. Кора под влиянием Алонцо, в свою очередь, нарушает законы жизни своего народа. Влюбленные готовы принять смерть, но любовь побеждает все, в том числе ставшие устаревшими законы жизни. Старый закон начинает осознаваться как закон «грубых времен»19, поэтому по слову царя Квитского Аталиба «Закон уничтожается!»20, на смену мертвому закону приходит торжество чувств любви и свободы. В «Деве Солнца», таким образом, не только побеждает образ мира, в целом характерный для «трогательных» пьес Коцебу, но и, говоря современным языком, идентичность испанцев торжествует над идентичностью перуанцев.
Самой значительной, менее схематичной, чем Алонцо и Кора, фигурой в пьесе Коцебу является полководец Ролла, который любит Кору, предназначенную ему в супруги. Ролла, однако, уходит на войну, а Кора становится девой Солнца и клятвопреступницей. Но такой - потенциально трагический - вариант любовной истории в пьесе Коцебу также предстает как история «грубых времен», которые должны окончиться.
«Дева Солнца», пьеса о завоевании Америки в Тобольском театре, и мемуары Коцебу актуализируют одну из популярных идей начала XIX в. о сходстве историй завоевания Америки европейцами и Сибири русскими.
А.Л. Шлецер сформулировал ее в работе «Краткое начертание сибирской истории» следующим образом: «История открытия и завоевания Сибири русскими представляет разительное сходство с покорением Америки испанцами, случившимся почти в одну эпоху»21. Работу Шлецера, опубликованную в «Вестнике Европы» в 1804 г, когда его редактировал Сумароков, можно рассматривать как своего рода послесловие к его сибирской ссылке.
Тексты Коцебу позволяют констатировать различие итогов завоевания Америки и Сибири. Следствием первого становится торжество любви, свободы и стирание идентичности перуанцев; следствием второго - скрытая взаимная ненависть и опыт мирного существования завоевателей и за- воеванных.
Осознавая специфику «трогательных» пьес Коцебу с современной точки зрения, трудно, тем не менее, не согласиться с критической оценкой его произведений в журнале «Вестник Европы» в 1804 г, где, помимо самой известной пьесы Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», анализируется и «Дева Солнца». «Недостаток единства и вероятия еще приметнее в пьесе под названием “Дева Солнца”», - утверждает критик22. В целом о пьесах Коцебу сказано: «Страшные и быстрые успехи испорченного вкуса»23. Феномен моды на Коцебу критик также объясняет отсутствием вкуса у публики, восторгающейся его пьесами. Главная претензия к публике - неразличение высокого и невзыскательного: «Та же самая публика, которая не требует Ифигении и не хочет видеть Альзиры, помещает г. Коцебу подле Расина, Вольтера и Лессинга»24. Именно эта цитата из первого номера «Вестника Европы» за 1804 г, скорее всего, послужила источником эпиграммы «Блаженства» Сумарокова:
Блажен, кто не роптал во веки на судьбу;
Блажен, ровняющий с Расином К...25
Пьеса «Дева Солнца», поставленная в Тобольском театре, таким образом, позволяет понять критическое отношение Сумарокова к моде на Коцебу, к невзыскательной публике, которая «хвалит и платит».
Изучение «встречи» Сумарокова и Коцебу в 1800-1804 гг. помогает отказаться от узкобиографического подхода к вопросу о сибирской ссылке Сумарокова, по-новому увидеть масштаб его личности, проявляющийся и в ситуации преодоления им внутренней катастрофы в условиях ссылки, и в полноте его включенности в сибирский дискурс. Открытие Сибири извне, из немецкой культуры, и изнутри, из русской культуры, позволяет увидеть стереоскопичность ее понимания на рубеже XVIII-XIX вв., связанную прежде всего с проблематикой взгляда на Сибирь как пространство между Европой и Америкой.
Коцебу и Сумароков, каждый по-своему, проживают и описывают общий для них сюжет открытия Сибири, существующий в культуре со времен Геродота и приобретающий особую актуальность в контексте современных процессов глокализации. Взаимодействие опыта русской и немецкой культур помогает обнаружить в этом сюжете его геокультурный смысл: Сибирь позволяет открыть в себе и Европу, и Америку, оставаясь при этом самой собой.
Список литературы Панкратий Сумароков и Август Коцебу: сюжет открытия Сибири
- Павлов В.А. Повесть о Панкратии Сумарокове//Урал. 2004. № 7. С. 147-182.
- Штайнке К. Записки Августа фон Коцебу о Тобольске начала XIX в.: к восприятию Сибири немцами//Quaestio Rossica. 2015. № 1. С. 74-75.
- Мельникова С.И. Коцебу в России. СПб., 2005. С. 170.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 350.
- Коцебу А. Достопамятный год моей жизни: воспоминания. М., 2001. С. 44, 45.
- Приказчикова Е.Е. Культурный миф о романе-развратителе и способы его преодоления в русской литературе эпохи Просвещения//Филологические науки. 2009. № 4. С. 74.