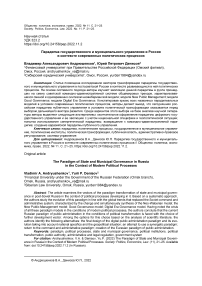Парадигма государственного и муниципального управления в России в контексте современных политических процессов
Автор: Андрюшенков Владимир Александрович, Денисов Юрий Петрович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию векторов трансформации парадигмы государственного и муниципального управления в постсоветской России в контексте развивающихся в ней политических процессов. На основе системного подхода авторы изучают эволюцию данной парадигмы в русле пришедших на смену советской командно-административной системе общемировых трендов, характеризовавшихся сменой и одновременно синтезом неовеберианской модели; модели New Public Management; модели Good Governance; модели Digital Era Governance. Констатировав кризис всех названных парадигмальных моделей в условиях современных политических процессов, авторы делают вывод, что сегодняшняя российская парадигма публичного управления в условиях политической трансформации оказывается перед выбором дальнейшего вектора развития. Среди вариантов этого выбора на базе анализа научной литературы авторы выделяют следующие альтернативы: окончательное оформление парадигмы цифрового государственного управления и ее эволюцию с учетом национальной специфики и геополитической ситуации; попытка использования синергетической парадигмы; возвращение к командно-административной парадигме; создание евразийской парадигмы публичного управления.
Парадигма, политические процессы, государственное и муниципальное управление, политические институты, политическая трансформация, публичная власть, административно-правовое регулирование, система управления
Короткий адрес: https://sciup.org/149142012
IDR: 149142012 | УДК: 323.2 | DOI: 10.24158/pep.2022.11.2
Текст научной статьи Парадигма государственного и муниципального управления в России в контексте современных политических процессов
1 июля 2020 г. состоялось общероссийского голосование, в ходе которого были одобрены поправки в Конституцию Российской Федерации. В числе прочего ими было предусмотрено функционирование в рамках российской федеративной модели единой системы публичной власти, объединившей в себе в соответствии с ч. 3 ст. 132 обновленной Конституции органы местного самоуправления и органы государственной власти. Данное событие стало поворотной точкой в динамике всего спектра политических процессов в Российской Федерации и ознаменовало новый виток трансформации отечественной политико-правовой системы. В дальнейшем потребность в политической трансформации резко усилилась на фоне интеграции в состав Российской Федерации новых субъектов, острых геополитических вызовов, динамики проводимой нашей страной специальной военной операции, проблем постпандемической реальности. Трансформационный характер политических процессов в России детерминирует и неуклонно цифровизирующаяся коммуникативная среда.
Масштабная и кардинальная политическая трансформация неизбежно ставит вопрос о модификации или смене парадигмы государственного и муниципального управления. Парадигма может быть рассмотрена как совокупность норм, ценностей, моделей и методов решений проблем (Kuhn, 1962), а политическая трансформация как процесс характеризуется преобразованием форм и содержания политической сферы жизни общества, «норм, ценностей и моделей политического поведения и политической деятельности» (Федорова-Кузнецова, 2022: 24). Она «может выражаться в приобретении политической системой совершенно иных черт, смене политических стандартов, ценностей и ориентиров, а также в глубоких структурных изменениях, которые могут привести к практически полному ее обновлению» (Федорова-Кузнецова, 2022: 24).
Эволюция парадигмы государственного и муниципального управления постсоветской России фактически начинает свой отсчет с подписания в Беловежской пуще 8 декабря 1991 г. Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, зафиксировавшего прекращение существования СССР. Одномоментно с крушением СССР происходит крушение советской марксистской монопарадигмы государственного управления. В результате в отечественном публичном управлении образуется парадигмальный вакуум, который постепенно заполняется посредством рецепции западных управленческих моделей и общемировых управленческих трендов, в значительной степени отражающих пережитые западными политико-правовыми и управленческими системами кризисные явления.
Практически одномоментно с кризисом советской марксистской парадигмы управления в кризисе оказалась и западная неовеберианская управленческая парадигма, которая, по сути, представляла собой разновидность веберовской парадигмы, дополнившую фундаментальное понимание сущности государства видением его этической природы. С 1980–1990-х гг. в результате развернувшихся в ряде западных стран административных реформ трансформация механизмов публичного управления происходила на основе парадигмы New Public Management (NPM). Ее ключевыми аспектами стали формирование сервисно-менеджериальной модели государственного управления, адаптированной к условиям современного рынка и базирующейся на показателях эффективности, и делегирование властных полномочий за пределы органов государственной власти (Denhardt, Denhardt, 2000). Однако характерные черты данной модели, к числу которых следует отнести восприятие системы публичной власти как части сферы услуг, недоучет институциональной и социокультурной специфики страны, второстепенность решения социальных проблем, эрозия роли государства и государственных служащих в общественных отношениях породили новые проблемы. Ответом на них стало внедрение в практику публичного управления парадигмы Good Governance (Красильников и др., 2014: 52–53). Она сконцентрировалась на идеях и ценностях партнерства и инклюзивного взаимодействия, в рамках которого органы публичной власти принимают решения совместно с другими секторами общества, ориентируясь на человека и интеграцию автономных возможностей граждан и юридических лиц в механизм функционирования публичной власти.
В условиях цифровизации и появления модели цифрового государственного управления (Digital Era Governance, DEG), базирующейся на использовании больших баз данных и веб-технологий, роль негосударственных акторов в реализации публично-властных функций неуклонно возрастает (Mihailescu, 2015). Ориентируясь на расширение цифрового взаимодействия государства и общества, «цифровую привязку» граждан и бизнеса к государственным информационным платформам, развитие цифрового взаимодействия в пространстве социальных сетей Интернета, модель DEG отрицает положения NPM-парадигмы, касающиеся децентрализации и деиерархизации органов государственной власти. Напротив, модель DEG отражает интеграционные политические процессы и связывает дальнейшее развитие системы управления с централизацией и иерархизацией его функций на основе цифровизации.
Пройдя в своей эволюции две волны, модель DEG, по мнению ряда ученых, так и осталась лишь квазипарадигмой (Купряшин, Шрамм, 2021; Dunleavy et al., 2006). Сосредоточившись на возобновлении тенденций централизации в государственном управлении и использовании новых достижений информационно-коммуникационных технологий и отрицая ряд постулатов NPM-парадигмы, модель DEG не смогла ни сформировать необходимого для полноценной парадигмы ценностно-нормативного ядра, ни достичь диалектического синтеза с прежними парадигмами. Однако концептуальная основа модели DEG во многом нашла отражение в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.1, а один из реализуемых на сегодняшний день федеральных проектов носит название «Цифровое государственное управ-ление»2. Поэтому Г.Л. Купряшин и А.Е. Шрамм используют применительно к модели DEG термин «парадигма» в качестве попытки концептуализировать особенности развития цифрового государственного управления в тесной связи с технологическими изменениями. Кроме того, они констатируют признаки новой, третьей, волны парадигмы цифрового государственного управления, выдвигая гипотезу о ее возникновении в России (Купряшин, Шрамм, 2021: 259).
Описанные процессы протекают в условиях повышения геополитической напряженности, неутихающей санкционной риторики, угроз отключения России от Интернета, перманентных рисков кибератак, агрессивной политики, проводимой в отношении граждан Российской Федерации популярным видеохостингом «Ютьюб», и признания решением Тверского районного суда города Москвы платформы Meta экстремистской организацией. Такого рода контекст неизбежно стимулирует научное сообщество к поиску новых векторов развития парадигмы государственного и муниципального управления в стране.
В российском научном дискурсе сегодня предлагается несколько вариантов дальнейшей трансформации парадигмы государственного и муниципального управления в России. В качестве одного из возможных концептуальных оснований реформ называется синергетическая парадигма. Однако ее эффективное внедрение в практику государственного и муниципального управления возможно лишь «при условии достижения паритета» комплекса критериев (Безви-конная, Портнягина, 2022: 12). Среди них выделяются обратная связь, информационная открытость, эмерджентность, инновационность и целеполагание. Однако ограничиться названными критериями представляется невозможным, «поскольку открытость системы публичной власти предполагает постоянный энтропийный обмен, приводящий к увеличению количества и содержания принципов самоорганизации» (Безвиконная, Портнягина, 2022: 12).
Более простым путем в контексте нарастания военных и диверсионно-террористических угроз, введения частичной военной мобилизации, острой потребности в полной и всесторонней мобилизации всего государства и общества, функционирования ряда экстраординарных административно-правовых режимов выглядит возвращение к советской командно-административной парадигме государственного и муниципального управления. Оно дает возможность выстроить жестко централизованную модель управления и предполагает отказ от «позиций, относящихся к необходимости слома административно-командной системы, придания исполнительной власти сервисного статуса, замены системы обеспечения безопасности и поддержания порядка управления на сетевые структуры государственного обслуживания сиюминутных интересов разных лиц» (Осинцев, 2022: 50). Притягательность данной парадигмы сегодня заключается и в том, что именно в условиях ее господства СССР удалось одержать победу в Великой Отечественной войне. Однако неизбежно остро возникает вопрос о возможности возращения к командно-административной парадигме в условиях рыночной экономики и о причинах ее краха в момент распада Советского государства.
Еще одной парадигмой, имеющей высокий потенциал для современной российской системы государственного и муниципального управления в контексте интеграционных политических процессов на постсоветском пространстве, является евразийская парадигма. На данном этапе своего развития она объединяет обширный круг концептуально-теоретических подходов, имеющих общие признаки: идея необходимости выстраивания публичного управления в России исходя из ее осмысления как особой «незападной» цивилизации; отказ от западной системы ценностей и глобалистских моделей; осознание, в том числе в управленческих практиках, «интегральной идентичности России» (Дугин, 2022: 144). На этой основе евразийцами предлагается полноценная парадигма социального государства, базирующаяся на широкой трактовке социальных отношений, синтезирующих все сферы воспроизводства человеческой жизни. В основе государственного и муниципального управления, согласно данной парадигме, лежат социально ориентированная рыночная экономика, контроль со стороны общества и государства, евразийский тип политической системы, построенный на единении правителя и народа и «опирающийся на народовластие и самоуправление граждан» (Выдрин, 2022: 53). Вместе с тем реализация данной парадигмы в государственном и муниципальном управлении современной России неизбежно поставит вопрос о ее принятии «мировым сообществом» и значительной частью российских элит и проблему нивелирования ее противоречий с теми векторами развития, которые были выбраны в 90-е гг. прошлого столетия и частично сохраняются сегодня.
Итак, динамика политических процессов в постсоветской России, обусловившая в течение тридцатилетия развитие парадигмы государственного и муниципального управления в русле общемировых трендов, привела к новому витку трансформации, а возможно, и к кардинальной смене парадигм. Сегодня единая система публичной власти в Российской Федерации стоит перед выбором парадигмы, который включает в себя несколько вариантов: окончательное оформление и эволюция парадигмы цифрового государственного управления с учетом национальной специфики и геополитической ситуации; попытка использования синергетической парадигмы; возврат к командно-административной парадигме; создание евразийской парадигмы публичного управления. Безусловно, данный перечень может быть не исчерпывающим, а проблема выбора вектора развития российской системы публичного управления требует отдельного более тщательного и глубокого исследования. Однако представляется очевидным, что дальнейшая трансформация парадигмы государственного и муниципального управления в России, с одной стороны, должна отвечать уровню вызовов и угроз современности, сохраняя четкую иерархическую систему государственной власти и усиливая ее мобилизационный потенциал; с другой – должна быть нацелена на развитие новых форм политического участия, инклюзивность, сотрудничество между обществом и государством, реализуемое не в последнюю очередь посредством цифровых технологий, снижение разрывов между управляющими и управляемыми.
Список литературы Парадигма государственного и муниципального управления в России в контексте современных политических процессов
- Безвиконная Е.В., Портнягина Е.В. Синергетическая парадигма как концептуальное основание реформы // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2022. № 1. С. 9-13. https://doi.org/10.36809/2309-9380-2022-34-9-13.
- Выдрин И.В. Евразийство как конституционно-правовой проект развития России (статья-рецензия на монографию Ю.И. Скуратова «Евразийская парадигма России и современные проблемы ее конституционно-правового развития». М.: Проспект, 2021. 439 с.) // Государство и право. 2022. № 5. С. 47-54. https://doi.org/10.31857/S102694520019760-7.
- Дугин А.Г. Евразийство как незападная эпистема российских гуманитарных наук: интервью с Александром Гельеви-чем Дугиным, доктором политических наук, доктором социологических наук, профессором, лидером Международного Евразийского движения. Интервью провела М.А. Баранник // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Международные отношения. 2022. Т. 22, № 1. С. 142-152. https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-1-142-152.
- Красильников Д.Г., Сивинцева О.В., Троицкая Е.А. Современные западные управленческие модели: синтез New Public Management и Good Governance // Ars Administrandi. Искусство управления. 2014. № 2. C. 45-62.
- Купряшин Г.Л., Шрамм А.Е. О перспективах третьей волны парадигмы цифрового государственного управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. № 84. С. 256-276. https://doi.org/10.24412/2070-1381-2021-84-256-276.
- Осинцев Д.В. Государственное регулирование и государственное администрирование: соотношение правовых моделей // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 3. С. 48-57.
- Федорова-Кузнецова И.В. Россия - СНГ: основные направления политической трансформации на постсоветском пространстве // Общество: политика, экономика, право. 2022. № 6. С. 24-28. https://doi.org/10.24158/pep.2022.6.3.
- Denhardt R.B., Denhardt J.V. The new public service: Serving rather than steering // Public Administration Review. 2000. Vol. 60, no. 6. P. 549-559. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117.
- Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. New public management is dead - Long live digital-era governance // Journal of Public Administration Research and Theory. 2006. Vol. 16, no. 3. P. 467-494. https://doi.org/10.1093/jopart/mui057.
- Kuhn T. The structure of scientific revolutions. Chicago, 1962. 210 p.
- Mihailescu M.E. Public service in age of globalization // Economics and Applied Informatics. "Dunarea de Jos" University of Galati. 2015. Iss. 1. P. 35-42.