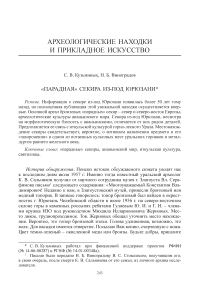«Парадная» секира из-под Юрюзани
Автор: Кузьминых С.В., Виноградов Н.Б.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Археологические находки и прикладное искусство
Статья в выпуске: 240, 2015 года.
Бесплатный доступ
Информация о секире из-под Юрюзани появилась более 50 лет томуназад, но полноценная публикация этой уникальной находки осуществляется впервые. Основной ареал бронзовых «парадных» секир - север и северо-восток Европы,археологические культуры ананьинского мира. Секира из-под Юрюзани, несмотря на морфологическую близость с ананьинскими, отличается от них рядом деталей.Предполагается ее связь с иткульской культурой горно-лесного Урала. Местонахождение секиры свидетельствует, вероятно, о вотивном назначении предмета и его«захоронении» в одном из потаенных культовых мест уральских горняков и металлургов раннего железного века.
"парадные" секиры, ананьинский мир, иткульская культура, святилища
Короткий адрес: https://sciup.org/14328212
IDR: 14328212
Текст научной статьи «Парадная» секира из-под Юрюзани
История обнаружения . Поиски истоков обсуждаемого сюжета уводят нас к последним дням июля 1957 г. Именно тогда известный уральский археолог К. В. Сальников получил от научного сотрудника музея г. Златоуста Вл. Серафимова письмо1 следующего содержания: «Многоуважаемый Константин Владимирович! Недавно к нам, в Златоустовский музей, принесли бронзовый или медный топорик. В записке говорилось: топор бронзовый был найден в окрестностях г. Юрюзань Челябинской области в июне 1956 г. на северо-восточном склоне горы в каменных россыпях ребятами Гуляевым Ю. И. и Г. И. – членами кружка ИЗО под руководством Михаила Илларионовича Жерновых. Место дикое, труднопроходимое. Тов. Жерновых обещал уточнить место нахождения. Вероятно, это топор бронзовой эпохи. Голова удлиненная, возможно, это волк. Для насадки имеется отверстие. Посылаю Вам копию, счерченную с ножа. Цвет темно-зеленый – окисленной меди или бронзы. Будьте добры, пришлите
* С. В. Кузьминых работал при финансовой поддержке проектов РФФИ (№ 14-06-00287) и РГНФ (№ 14-01-00348а).
нам определение. Научный сотрудник Златоустовского музея, Вл. Серафимов. 25/VII 57 г.». Ниже рукой К. В. Сальникова приписано: «Отвечено: это бронзовая секира эпохи раннего железа, датируется серединой I тыс. до н. э.». Позднее исследователь опубликовал заметку с краткой характеристикой новых археологических находок на Южном Урале ( Сальников , 1964), включая скупое описание секиры и сильно уменьшенную невыразительную фотографию. Скульптура на обухе секиры осторожно трактовалась им как «оскаленная морда хищного зверя» (Там же. С. 313); само изделие было предварительно отнесено к эпохе раннего железа; определен круг аналогий и культурно-стилевая территория (ананьинский «мир»); приведено мнение А. В. Збруевой о том, что подобные предметы являлись «не боевым оружием, а символами власти» ( Збруева , 1952. С. 132).
Спустя 20 лет секира из Златоустовского музея привлекла внимание одного из авторов в труде об орудиях и оружии ананьинской культурно-исторической области (АКИО) ( Кузьминых , 1977; 1983. С. 143–146). С того времени упоминания о ней содержатся в ряде работ, посвященных как новым находкам секир, так и в целом искусству Волго-Камья раннего железного века ( Рябцев, Семенов , 1988; Киржнер, Арматынская , 1990; Васильев , 2002; Берлин , 2010; и др.), но источник информации оставался прежним – публикация К. В. Сальникова. В 1986 г. в ходе работ Уральской археологической экспедиции ИА АН СССР С. В. Кузьминых побывал в Златоусте, сделал рисунок и описание секиры, а также взял пробу для изучения химического состава металла в лаборатории естественнонаучных методов ИА АН СССР (ан. 38245). Позднее Н. Б. Виноградов осуществил фотосъемку предмета (рис. 1: с. 359) и провел необходимые архивные разыскания. В итоге стала возможной полноценная публикация этой уникальной находки.
О термине «секира» . В большинстве словарей так именуется древнее или старинное рубящее холодное оружие – топор в виде полумесяца (длиной лезвия до 30 см), насаженный на топорище. Бронзовые ананьинские секиры лишь отчасти соответствуют данному определению: уточнено, что это «изделия с трапециевидно-треугольным бойком, постепенно расширяющимся от втулки к лезвию, с арковидным углублением на нем с обеих сторон» ( Кузьминых , 1983. С. 144). «Парадными» они названы (Там же. С. 143–145) потому, что уже первые авторы, писавшие о секирах ( Штукенберг , 1903. С. 65), видели в них не оружие, а престижные, знаковые предметы. Рассказ Геродота о священном назначении секиры в легенде о происхождении скифов был перенесен на ананьинскую «почву». Многими поколениями исследователей «парадные» секиры рассматривались в контексте символической (ритуальной, сакральной) деятельности элиты ананьинского общества, отражая его религиозно-философские воззрения (см. обзоры: Кузьминых , 1983. С. 145; Васильев , 2001. С. 37, 38).
Общие сведения о «парадных» секирах. В настоящее время с территории северо-востока и востока Европы известно 10 секир (см. карту: Кузьминых, 1983. Рис. 78; Берлин, 2010. Рис. 1)2. Восемь из них – случайные находки, и лишь две (Пашурское 1 и Кара-Абызское городища) привязаны к археологическим памятникам, но вне контекста раскопок, т. е. фактически они тоже являются случайными находками. Ниже на примере секиры из-под Юрюзани и серии «вотивных» уральских кладов эпохи раннего железа мы обратим внимание на неслучайный характер подобных случайных находок.
Все «парадные» секиры (ПС) уникальны и неповторимы, но всё же морфологически их можно разделить на пять типологических разрядов3. ПС–2 (пи-нежский и елабужский типы А. М. Тальгрена): с выступающей втулкой, завершенной головой ушастого грифона в направлении бойка, и длинным обушком в виде стилизованной головы волка (5 экз.) – р. Пинега в Архангельской области (2 экз.; Тальгрен , 1919; Tallgren , 1937. Fig. 1, 2), из окрестностей б. Воткинского завода (ныне г. Воткинск в Удмуртии) ( Штукенберг , 1903), Пашурское 1 городище в Шарканском р-не Удмуртии ( Tallgren , 1937. Fig. 4; Збруева , 1952. Табл. XXXII, 2 ), близ пос. Курган Чердынского р-на Пермского края ( Соколко-ва, Чуматова , 1979. Фото 2). ПС–4: отличается от ПС–2 головой грифона на обушке – близ с. Слудка Сыктывдинского р-на Республики Коми ( Рябцев, Семенов , 1988). ПС–6: отличается от ПС–2 и ПС–4 молоточковидным обушком – городище Кара-Абыз на одноименном озере близ д. Городок Благовещенского р-на Башкирии ( Шмидт , 1929. Табл. I, 15 ). Эти три разряда объединяют головы ушастых грифонов, венчающие втулку. ПС–8 – из-под Юрюзани – отличается от них короткой, слабо выступающей в обе стороны втулкой, не увенчанной головой грифона, и стилистически иным оформлением головы волка на обушке. ПС–10: без выступающей втулки и венчающей ее головы грифона, с длинным, узким, слабо расширенным к лезвию бойком и коротким обушком (2 экз.). У секиры д. Галаново Каракулинского р-на Удмуртии ( Киржнер, Арматынская , 1990) обушок передан в виде головы волка, поверх которой в плоском широком рельефе сформовано изображение совы; у экземпляра из неизвестного места этого же района ( Берлин , 2010. Табл. 2) на боковых поверхностях обушка – схематизированные изображения грифона и овала (яйца).
Описание находки из-под Юрюзани . Размеры (в мм): общая длина 194; длина обушка 71, ширина 24–33, толщина 6–22; длина бойка 90, ширина 23–36, толщина (у втулки) 11; длина втулки 34, ширина 31–35, толщина 23–26, толщина ее стенок 3–5. По своим размерам секира из-под Юрюзани в одном ряду с кара-абыз-ской, галановской и каракулинской (180, 185, 186 мм) (Там же. Табл. 2, 3); все шесть секир пинежского и слудкинского типов заметно длиннее – 310–350 мм (Там же. Табл. 1).
В морфологическом и декоративном оформлении юрюзанской секиры отчетливы черты своеобразия и в то же время сходства с ананьинскими разряда ПС–2. Уральская находка, которую мы с полным основанием относим к продукции иткульского металлургического очага (см. о нем: Бельтикова, 1997), является модификацией, подражанием ананьинским образцам. Последние более легкие, грацильные – намного длиннее; уральская по пропорциям более массивная и тяжеловесная; все детали скульптуры и декора выполнены в восковой модели более грубо, неряшливо. Фигура волка на секире из-под Юрюзани более реалистичная; в ней передано анатомическое строение головы зверя с открытой пастью, но без присущего секирам пинежского типа оскала и спирально закрученных вверх и вниз губ; уши небольшие, стоячие, в отличие от стилизованных у экземпляров ПС–2. Для уральской и ананьинских секир характерны в декоре рельефные и углубленные линии: поперечные у ПС–2, 4, 6 и продольные – в продолжение орнамента на втулке – на обушке юрюзанской. Отличает эти образцы также строение втулки, слабо выступающей на уральской секире и длинной и тонкой – на ананьинских. Но главное своеобразие находки из-под Юрюзани – отсутствие фигуры грифона или орла, венчающей втулку, как на экземплярах ПС–2, 4, 6. В мифологическом пантеоне, культах и ритуалах уральского населения эпохи раннего железа птицевидные образы занимают особое, видное место, но это всегда одиночные фигурки4. Возможно, в иткульском обществе существовало табу на их совмещение с иными фигурами, в частности, волком, на оружии и предметах символического назначения. Но это не более чем предположение.
Морфологическое и декоративное оформление секиры из-под Юрюзани хорошо вписывается в контекст тесных ананьинско-иткульских связей ( Бель-тикова , 2001), благодаря которым в сортамент продукции иткульского очага металлургии вошли категории изделий, которые традиционно именуются анань-инскими (кельты с овальной и шестигранной втулкой, наконечники копий с прорезным и сплошным пером и др.). Но сами образы волка и хищных хтонических птиц (грифона, фантастического ушастого орла, филина) связаны прежде всего с мировоззрением и искусством ранних кочевников степного пояса Северной Евразии. Именно благодаря связям с номадами, в VI–V вв. до н. э. образы волка и хтонических птиц стали популярными в мифо-ритуальной практике их северных соседей5.
Технология изготовления . Уральская секира отлита из оловянной бронзы (Sn – 4,6 %), «загрязненной» повышенными концентрациями свинца (0,64 %), мышьяка (0,23 %) и сурьмы (0,12 %). Кузнецы и литейщики иткульской культуры, как показали исследования С. В. Кузьминых (2009. Рис. 5), работали прежде всего с медью. Оловянные и оловянно-мышьяковые бронзы использовались крайне редко – это или импорты (например, зеркала и бляхи в зверином стиле раннекочевнических типов), или местное литье предметов повышенной сложности. Секира из-под Юрюзани – именно тот случай. В пазах обушка и углублениях декора, где заметнее проявились окислительные процессы, выступили зеленоватые окислы. В целом же благородная патина бронзы темно-красноватокоричневых оттенков.
Литье изделия осуществлялось по выплавляемой модели, в которой втулка формовалась с помощью короткого глиняного вкладыша овальной в сечении формы. Сама восковая модель соединялась из трех частей – втулки, обушка и бойка, а затем заформовывалась в неразъемную глиняную форму. При этом лезвийная часть модели бойка несколько искривилась и в итоге при отливке приобрела в профиле асимметричность. Осью восковой модели была массивная втулка – к ней крепились модели обушка и бойка. Моделирование обушка в виде головы и шеи волка производилось на «шишке» или «болване» – приеме, характерном для формовки полых моделей (Минасян, 2014. С. 178, 179). На «шишку» – глиняную внутреннюю часть литейной формы – «наносился слой воска, на котором прорабатывались все детали внешнего оформления модели» (Там же. С. 178). На визуально изученных нами «парадных» секирах в большинстве случаев глиняные «шишки» выкрошились или намеренно удалены. Но, например, на секире с Воткинского завода глины нет только в раскрытой пасти волка; глубже, вплоть до втулки, «шишка» сохранилась. На секире из-под Юрюзани она спрессована из цементоподобной глины, которая сама по себе не выкрошится. Этому мешает и прикрытая пасть волка (в отличие от секир пинежского и слудкинского типов с широко раскрытой пастью). Все рельефные и углубленные детали прорабатывались на восковой модели до ее заформовки в неразъемную форму. Следы использования инструментов при резке по затвердевшему воску, подрезки его излишков, вытягивания (лепки) ушей, многочисленные дефекты (размазанный воск поверх орнаментального пояска в основании бойка, капли воска и др.) фиксируются на разных частях секиры. Только нижний край втулки и лезвие несут на себе следы послелитейной доработки, вероятно, «вгорячую». К дефектам литья следует отнести газовые поры и раковины, прежде всего на обушке и прилегающей части втулки. Обычно они концентрируются в верхней части отливок (поблизости от литника) (Там же. С. 75). Скорее всего, литник был подведен к массивной верхней части торца пасти волка, но визуально он «не читается».
Секира из-под Юрюзани: случайная находка или вотивное «захоронение» ? Ни в одном случае «парадные» секиры не найдены в могильниках, хотя большая их часть происходит из ареала АКИО, где выявлены погребения. Мы не можем связать находки секир и с кладами литейщиков, которые – в отличие от позднего бронзового века – не характерны для археологических культур Волго-Камья и Урала эпохи раннего железа. Уральские (иткульские) клады, обнаруженные обычно на вершинах гор, в скалах или у их подножия ( Викторова , 2004. С. 166), интерпретируют как жертвенные (святилищные) комплексы, непосредственно связанные с магическими обрядами и ритуалами, сопровождавшими потаенную (сакральную) жизнь архаических горняков и металлургов (см. обзор проблемы: Чемякин, Кузьминых , 2011. С. 68, 69).
Пример с другого конца Европы, вошедший в учебники археологии. Во второй половине XIX в. датский археолог Й. Я. Ворсо обратил внимание на то, что многочисленные клады бронзового века на севере Германии, в Дании и на юге Швеции найдены в болотах, на дне рек и озер. Причем это не только орудия и оружие из меди и бронзы, но и золотые сокровищницы (сосуды, украшения, заготовки, сырье). Ворсо усомнился в случайности их археологизации и предположил, что эти предметы являлись жертвенными и намеренно бросались в воду.
«Парадные» секиры – подлинные произведения бронзолитейного искусства раннего железного века – безусловно, являлись предметами высокого социального ранга и значимости. Предполагать, что они, как вещи утилитарные, потеряны, в отношении этой категории предметов, по меньшей мере, нелепо. Обе секиры с Пинеги найдены где-то на берегу реки; верхнекамская (близ пос. Курган) обнаружена в лесу при рытье канавы; галановская – результат тех же земляных работ на современном кладбище; экземпляр из Слудки выпал из осыпи грунтовой дороги, земля для насыпи бралась где-то на стороне; место находки секиры из Златоустовского музея описано как «дикое, трудно проходимое». «Случайный» характер и других находок заставляет усомниться в случайности археологизации «парадных» секир. Но, судя по всему, «захоронение» ананьинских секир не связано со святилищами типа иткульских «кладов» или костищ гляденовской культуры. Скорее всего, это вариант жертвенных приношений, описанный Ворсо (Worsaae, 1866. P. 314–316). Так ли было с секирой из-под Юрюзани, однозначно не ответить. И все же указание на труднодоступность места ее находки заставляет вспомнить о жертвенных или ритуальных комплексах в столь же потаенных местах Урала. Примером могут служить находки на Азов-горе6 и на горе Караульной, в Сухореченском гроте, на Шайтанском озере (Бортвин, 1949; Берс, 1951. С. 228, 229; Смирнов и др., 1992; Сериков, 2008) и в других уголках этой горной страны7.
Насельники Урала с каменного века обожествляли вершины гор, размещая на них свои святилища, культовые места. Некоторые из них, в частности, один из Шиханов – вершин, возвышающихся над о. Аракуль на севере Челябинской области, – сопровождались наскальными рисунками, выполненными охрой ( Широков , 2009. С. 7–9). Уступы самих Шиханов оказались усеяны обломками сосудов энеолитической эпохи. Предположить бытовую жизнь на вершинах скал в древности вряд ли уместно. Иное дело – устройство святилищ, культовых мест. На площадках вершин Уральских гор исследователи давно обратили внимание на «чаши» – округлые углубления различного размера (рис. 2). В своем большинстве они образовались явно вследствие воздействия на гранит высоких температур и морфологических изменений самого камня.
Включение вершин гор в систему верований древних уральцев продолжалось на всем протяжении жизни людей на Урале ( Викторова , 2004; Мищенко , 2004). Так, изучение одиноко стоящей скалы – Лысой горы на о. Большой Теренкуль – показало, что на ее уступах в момент обследования лежали фрагменты керамики финала бронзового века и эпохи раннего железа. На площадке вершины скалы располагалось культовое место иткульской культуры той же эпохи со следами ритуальной плавки меди и находками (бляха с ушком и трехлопастные наконечники

Рис. 2. Чаша на площадке вершины Малого Шихана стрел со смятым острием), традиционными для подобных святилищ (Дюрягин, 2009).
Бронзовая «парадная» секира из-под Юрюзани может быть связана, как и знаменитые ананьинские секиры, с жертвенным, символическим приношением, или же она являлась частью некоей древней коллекции, отложившейся в святилище более 2 500 л. н. Но это вновь предположение – жаль, что археологи в 1957 г. не обследовали по свежим следам место находки этого уникального предмета.
Вершины Уральских гор притягивали к себе людей во все времена и таят еще немало загадок. Они должны стать объектом пристального внимания археологов (а не «черных» копателей) с применением всего арсенала современных методов поиска и исследования.
Список литературы «Парадная» секира из-под Юрюзани
- Бельтикова Г. В., 1997. Зауральский (иткульский) очаг металлургии (VII-III вв. до н. э.): Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 23 с.
- Бельтикова Г. В., 2001. К вопросу о связях зауральского (иткульского) очага металлургии с ананьинской культурой//Древние ремесленники Приуралья/Отв. ред. В. И. Завьялов. Ижевск: УИИЯЛ. С. 134-138.
- Берлин А. В., 2010. Ритуальные топоры раннего железного века из Приуралья//Археологическое наследие как отражение исторического опыта взаимодействия человека, природы, общества (XIII Бадеровские чтения)/Отв. ред. Р. Д. Голдина. Ижевск: УдмГУ. С. 150-161.
- Берс Е. М., 1951. Археологическая карта г. Свердловска и его окрестностей//Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья. Т. II. М.: АН СССР. С. 182-243. (МиА; № 21.)
- Берс Е. М., 1963. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. 2-е изд., испр. и доп. Свердловск: Свердловское кн. изд-во. 110 с.
- Бортвин Н. Н., 1949. Находки на горе Азов на Урале//КСИИМК. Вып. ХХѴ С. 118-124.
- Васильев Ст. А., 2001. Ананьинские зооморфные чеканы: оружие или символ?//Вестник молодых ученых. Серия: Исторические науки. № 1. Специальный выпуск: Археология. СПб.: СПб НЦ РАН. С. 30-37.
- Васильев С. А., 2002. Искусство древнего населения Волго-Камья в ананьинскую эпоху (истоки и формирование): Автореф. дисс.. канд. ист. наук. СПб.: СПб ГУ. 22 с.
- Викторова В. Д., 2004. Клады на вершинах гор//Культовые памятники горно-лесного Урала/Отв. ред. В. Д. Викторова, Н. В. Фёдорова, В. Н. Широков. Екатеринбург: УрО РАН. С. 158-173.
- Дюрягин В. С., 2009. Святилище «Лысая Гора» раннего железного века на озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе Челябинской области//Проблемы археологического изучения Южного Урала/Отв. ред. Н. Б. Виноградов. Челябинск: Абрис. С. 46-71.
- Збруева А. В., 1952. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху//Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья. Т. V. М.: АН СССР 326 с. (МИА; № 30.)
- Киржнер Е. Э., Арматынская О. В., 1990. Бронзовая ананьинская секира из с. Галаново//СА. № 3. С. 256-259.
- Кузьминых С. В., 1977. Бронзовые орудия и оружие в Среднем Поволжье и Приуралье (I тысячелетие до н. э.): Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М.: ИА АН СССР 21 с.
- Кузьминых С. В., 1983. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке (медь и бронза). М.: Наука. 257 с.
- Кузьминых С. В., 2009. О металле городища Чича-1//Чича -городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи/Отв. ред. В. И. Молодин, Г. Парцингер. Т. 3. Новосибирск; Берлин: ИАЭ СО РАН. С. 202-212.
- Культовые памятники горно-лесного Урала/Отв. ред. В. Д. Викторова, Н. В. Федорова, В. Н. Широков. Екатеринбург: УрО РАН. 431 с.
- Минасян Р. С., 2014. Металлообработка в древности и Средневековье. СПб.: Гос. Эрмитаж. 472 с.
- Мищенко О. П., 2004. Памятники на вершинах гор в Среднем Зауралье//Четвертые Берсовские чтения/Отв. ред. В. Т. Ковалева. Екатеринбург: Аква-пресс. С. 185-193.
- Рябцев А. Н., Семенов В. А., 1988. Ананьинская парадная секира из-под Сыктывкара//СА. № 1. С. 244-245.
- САльников К. В., 1964. Находки на Южном Урале//СА. № 1. С. 313-315.
- Сериков Ю. Б., 2008. Южный Шихан -новый тип святилища на Шайтанском озере//Тр. II (XVIII) Всеросс. археологического съезда в Суздале/Отв. ред. А. П. Деревянко, Н. А. Макаров. Т. II. М.: ИА РАН. С. 289-292.
- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М.: Наука. 381 с.
- Смирнов Н. Г., Ерохин Н. Г., Быкова Г. В., Лобанова А. В., Корона О. М., Широков В. Н., Некрасов А. Е., Ражева М. В., 1992. Грот Сухореченский -памятник истории природы и культуры в Красноуфимской лесостепи//История современной фауны Южного Урала/Отв. ред. Н. Г. Смирнов. Свердловск: УрО РАН. С. 20-43.
- Соколкова Д., Чуматова О., 1979. Соликамские коллекции//Уральский следопыт. № 11. С. 15-16.
- Тальгрен А. М., 1919. Бронзовые топоры с головами животных из Восточной Европы (в переводе Л. Я. Залежской)//ИОАИЭ. Т. XXX. Вып. 1. С. 121-126.
- Чемякин Ю. П., Кузьминых С. В., 2011. Металлические орнитоморфные изображения раннего железного века Восточной Европы, Урала и Западной Сибири (лесная и лесостепная зоны)//Тверской археологический сборник/Отв. ред. И. Н. Черных. Вып. 8. Т. II. Тверь: Триада. С. 43-74.
- Широков В. Н., 2009. Уральские писаницы. Южный Урал. Екатеринбург: АМБ. 128 с.
- Шмидт А. В., 1929. Археологические изыскания Башкирской экспедиции Академии наук: (Предварительный отчет о работах 1928 г.). Уфа. С. 1-28. (Приложение к журналу «Хозяйство Башкирии». № 8-9.)
- Штукенберг А. А., 1903. Заметка: (О боевом топоре, доставленном с Воткинского завода)//ИОАИЭ. Т. XIX. Вып. 1. С. 65.
- Tallgren A. M, 1937. The Arctic Bronze Age in Europe//ESA. T. ХI. P. 1-46.
- Worsaae J. J. A., 1866. Om nogle Mosefund fra Broncealderen//Aarb0ger for nordisk oldkyndighed og historie IѴ. Kobenhavn: Nordiske Oldkriftselbskab. P. 313-326.