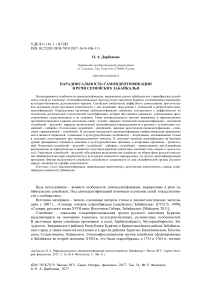Парадоксальность самоидентификации в речи семейских Забайкалья
Автор: Дарбанова Надежда Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание. Лексическая и грамматическая семантика: к юбилею Н. А. Лукьяновой
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности самоидентификации, выраженные в речи забайкальских старообрядцев (семейских), одной из локальных этноконфессиональных групп русского населения Бурятии, отличающейся языковыми, культурно-бытовыми, религиозными чертами. Семейским свойственна диффузность самосознания: при отчетливом осознании своей групповой идентичности у них возникают затруднения с этнической и религиозной самоидентификацией. Определенная групповая самоидентификация семейских сосуществует с диффузностью их этнической, региональной и религиозной идентификации, которая обусловлена наивными, упрощенными представлениями, существующими в их сознании. Такая неопределенность находит выражение в парадоксальных противопоставлениях в рамках оппозиции «свой - чужой»: парадокс этнической самоидентификации - оппозиция «семейский - русский»; парадокс региональной идентификации (принадлежности к региону): а) оппозиция «семейский - сибиряк», б) оппозиция «семейский - расейский»; парадокс религиозной самоидентификации - оппозиция «православный - семейский». В ситуации внутренней самоидентификации конфессиональная принадлежность является первичной, а языковые и культурно-бытовые особенности - вторичными, осознаваемыми только в ситуации сопоставления при непосредственном контакте. В ситуации внешней идентификации на бытовом уровне примарными становятся языковые и культурно-бытовые признаки, а вторичным признаком - религиозный. Оппозиции «семейский - русский», «семейский - сибиряк», «семейский - православный» при ближайшем рассмотрении не парадоксальны и являются следствием развития диалектных значений слов сибиряк и православный. Оппозиция «семейский - русский» обусловлена выделенностью семейских на общем фоне русского населения Забайкалья благодаря контрастности и культурной значимости маркирующих эту группу идентифицирующих признаков. Фактор выделенности семейских способствует сохранности их как специфической группы русского народа, несмотря на «дрейф» идентичности.
Самоидентификация, национальная идентичность, религиозная идентичность, говоры старообрядцев (семейских) забайкалья
Короткий адрес: https://sciup.org/147219840
IDR: 147219840 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-106-111
Текст научной статьи Парадоксальность самоидентификации в речи семейских Забайкалья
Цель исследования – выявить особенности самоидентификации, выраженные в речи забайкальских семейских. Под самоидентификацией понимаем осознание своей тождественности с сообществом.
Источник материала – записи, сделанные автором статьи в диалектологических экспедициях с 2007 г., «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» [СГССЗ, 1999], «Словарь русского языка XVIII века: Восточная Сибирь. Забайкалье» [Майоров, 2011].
Семейские – локальная этноконфессиональная группа русского населения Бурятии, выделяющаяся на основании языковых, культурно-бытовых, религиозных особенностей. В настоящее время семейские проживают в селах Тарбагатайского, Мухоршибирского, Би-чурского, Заиграевского районов Республики Бурятия и Красночикойском районе Забайкальского края, а также имеются поселения и в других районах Бурятии: Кижингинском, Кяхтинском, Селенгинском, Хоринском. Этноконфессиональная группа семейских сформировалась в Забайкалье во второй половине XVIII в., это были старообрядцы, в 1735 и 1764 гг. изгнан-
Дарбанова Н. А . Парадоксальность самоидентификации в речи семейских Забайкалья // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 9: Филология. С. 106–111.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология
ные из поселения на р. Ветка, находившегося на территории Речи Посполитой (современной Белоруссии), и отправленные в Сибирь, затем расселенные в Тарбагатайской, Куналейской, Мухоршибирской и Урлукской волостях Верхнеудинского и Нерчинского округов. К этому времени почти вся территория Забайкалья была освоена русскими переселенцами преимущественно из северных регионов европейской части Российской империи, с XVII в. обосновавшимися в Сибири и именуемыми сибиряками, в научной литературе - старожилами. Таким образом, во второй половине XVIII в. в Забайкалье возникла новая группа русского населения, отличавшаяся от местных русских старожилов по культурно-бытовым, религиозным и языковым признакам.
Вновь прибывшие переселенцы были носителями южнорусского говора, тогда как основа старожильческого русского населения Забайкалья представляла собой носителей северорусских говоров. Поселения старообрядцев выделялись внешним видом домов, их внутренним убранством, традиционным укладом жизни. Наряд семейских, особенно женский, существенно отличался от одежды местного населения. Но наиболее важным признаком, противопоставляющим новоприбывших русским старожилам Забайкалья, была, конечно, принадлежность к старообрядчеству, которая определила их обособленное существование на протяжении более трех столетий и тем самым сохранность культурно-бытовых и языковых особенностей, а также обусловила целостность, цельность и устойчивость этой группы. Степень сохранности зависела от изолированности семейских сел от окружающего иноязычного и инодиалектного населения, удаленности старообрядческих деревень от крупных населенных пунктов, наличия социально-культурных объектов и их уровня, развитости инфраструктуры села и др. факторов.
В настоящее время у семейских при отчетливом осознании своей групповой идентичности возникают затруднения с этнической и религиозной самоидентификацией, т. е. им свойственна диффузность самосознания.
Групповая идентификация семейских, т. е. осознание ими собственной принадлежности к особой группе и с внешней стороны отождествление семейских как таковых с представителями других групп населения Забайкалья, вполне определенная и четкая: Я сямейская , моИ дети - сямейские , матка , батька - да усе: сямейские , это уж как сконовеку (‘испокон веков’) было , так и буеть (Шал., Тарб.); Мьг-то , семейские , быдто няздешние , с Польши при-шедчи , при Екатерине сосланы. Да мы уж сколь веков здесь живём , и деды , и прадеды тута рождёны. Я дак шшитаю: мы здешные , и всё тут (Б. Кун., Тарб.); Мы , семейские , такие -крепкие , вера у нас такая , старая вера , крепкая... (Шал., Тарб.); Я сямейскою была и ся-мейской буду и сямейстий сарахван сроду ня забуду (частушка); Я-то православная , не семейская , но у нас тут семейские есь , мнОго. Вон Дуся , Ульяна , да много. Татары есь (Хонх., Тарб.) (материалы экспедиций автора).
При этом определенная самоидентификация семейских сосуществует с неопределенностью, диффузностью их этнической, региональной и религиозной идентификации, которая обусловлена наивными, упрощенными, представлениями, существующими в их сознании. Такая неопределенность находит выражение в парадоксальных противопоставлениях в рамках оппозиции «свой - чужой».
Парадокс этнической идентификации:оппозиция «семейский – русский»
Своеобразие этнической идентификации забайкальских семейских заключается в размытости их представлений о собственной этнической принадлежности и реализуется в парадоксальной оппозиции «русский - семейский», репрезентирующейся в подобных высказываниях: Муж-то семейский , а она - русская (В. Жир., Тарб.); Она не русская , семейская (Дес., Тарб.); Мы в Урлуке жИли , а в Усть-Урлуке - казаки , русские. ОнИ нас не любили , бичами гоняли. Вот идёшь мИмо тихонько , чтоб не увИдели. А увИдят , запОрют (Белооз., Джид.) (материалы экспедиций автора).
Семейские, будучи русскими, считают, что они принадлежат к особой этнической группе, не относящейся к русскому народу. Причем парадоксальность этого противопоставления усиливается тем фактом, что семейские, в отличие от остального русского населения в Буря- тии, в большей степени сохранили этническую «чистоту», поскольку религиозные воззрения не позволяли им вступать в браки с иноверцами. Основанием возникновения оппозиции «русский – семейский» явилось осознание выделенности их группы на общем фоне русского населения Забайкалья, базирующейся на ярко выраженных устойчивых языковых, субконфессиональных, культурно-исторических отличиях, например: Мы, сяме́ йсти, во́ ўсе чу́ дно гwори́ м. Сы́ на ув а́ рмии был, я к ня́ му пое́ хала, а рябя́ та-та яо́ и спра́ шиwають: «Wо-ой, дак а ма́ тка-то твоя́ ня ру́ сская, что ли? Что говори́ т-то, не разбярёшь. Она́ по како́ му гово-ри́ т-то?» (Дес., Тарб.); У нас, у семе́ йских, всё на «я» да на «у»: «уот» да «усё», да «тряттёўни» (‘позавчера’), «сарахва́ ны» да «муто́ ўки» (Б. Кун., Тарб.) (материалы экспедиций автора).
Также причиной появления этой парадоксальной оппозиции, на наш взгляд, стала длительная обособленность старообрядцев от остального русского населения в силу религиозных воззрений и специфики исторической судьбы, запреты на контакты, проявляющиеся в чашечничестве – запрете на молитвенное и трапезное общение с иноверцами и членами других направлений старообрядчества и др., закрытость из-за необходимости скрывать свою принадлежность к старообрядчеству вследствие постоянных гонений со стороны государства и официальной церкви. При этом усиление дискриминации старообрядцев и их самоизоляция вызвали двойственную реакцию – укрепление групповой самоидентификации и одновременно ослабление этнической идентификации.
Кроме того, эта оппозиция, возможно, поддерживается существовавшим ранее, например в XVIII в., противопоставлением Сибири и Руси, как называли в то время европейскую часть Российской империи: И в означенную перепись за отлучкой на лѣсном звѣрином промыслу не написан и в Русѣ сродственниковъ моих никого не имѣется (ф. 262, 1740). Находится в неполном разуме , и неоднократно уже збирается идти в Русь в прежнее свое жилище (ф. 20, 1792) [Майоров, 2011. С. 419].
Сибиряки именовали русскими жителей европейской России и переселенцев в Сибирь второй волны, относящейся к середине XVIII – началу XX в. Однако в настоящее время оппозиция «семейский – русский» уже не означает противопоставление по региональной принадлежности, а представляет собственно этническую категоризацию.
Противопоставление «семейский – русский» свойственно и внешней идентификации, со стороны представителей других групп населения. Например, сотрудница администрации, не семейская, так определяет национальный состав населения: У нас живу́ т ру́ сские , се-ме́ йские , тата́ ры , две буря́ тские семьи́ и оди́ н удму́ рт. Ру́ сских и семе́ йских – приме́ рно пятьдеся́ т на пятьдеся́ т <…> Сосе́ дние сёла: Нико́ льск – семь киломе́ тров , там семе́ йские живу́ т , Харашиби́ рь – ру́ сские , буря́ ты , тата́ ры , семе́ йских нет (Хонх., Мухор.) (материалы экспедиций автора).
Наивные представления об истории старообрядчества, в том числе семейских, незнание исторических фактов также способствуют расшатыванию этнической самоидентификации: А мы кто? Поля́ ки , что ли… С По́ льши прише́ дши , говоря́ т… А я ду́ маю , мы ру́ сские всё-таки. Говори́ м-то по-ру́ сски (Белооз., Джид.); Мы-то , семе́ йские , бы́ дто нязде́ шние , с По́ льши прише́ дчи , при Екатери́ не со́ сланы. Да мы уж сколь веко́ в здесь живём , и де́ ды , и пра́ деды ту́ та рождёны. Я дак шшита́ ю: мы зде́ шные , и всё тут (Б. Кун., Тарб.); Дак уот ня зна́ ю , отку́ дава взяли́ ся. Уот сяме́ йсти да сяме́ йсти. Говоря́ т , бы́ дто с По́ льши , да тя-пе́ рь хто узна́ т-то , старики́ -то усе́ помёрши. Нет , ма́ ма не ска́ зывала. Да кого́ , нягра́ мотная она́ , да я то́ жа. Уон вы туды́ вали́ тя , там стару́ ха живёть , уот она́ -то вам расска́ жет , уот она́-то зна́ мая (Корд., Тарб.) (материалы экспедиций автора).
Парадокс региональной идентификации(принадлежности к региону)
-
1. Оппозиция «семейский – сибиряк»: Сибиряко́ в мы сибиряка́ ми так и зва́ ли , а они́ -то нас семесю́ хами называ́ ли (Бич., Бич.) [СГССЗ, 1999. С. 424]; Ба́ тя – сибиря́ к правосла́ вный , а ма́ тка – семе́ йская (Б. Кун., Тарб.); Сибиряки́ жаниха́ с неве́ стой под вене́ ц у це́ рковь ве-ду́т , у нас тако́ го не́ было (Шарал., Мухор.); Ба́ бка-то на́ ша заряве́ ла: «Wой , он пошто́ си-би́ рку-то взял?» (В. Жир., Тарб); С сибиря́ чкой могли́ сва́ дьбу не сде́ лать , γря́зными назы-
ва́ ли , зна́ чить , они́ не чи́ сты семе́ йски (Куйт., Тарб.); У них сиби́ рская вера , не на́ ша (Б. Кун., Тарб.); Мы в сиби́ рскую це́ рькву не ходи́ ли , у нас своя́ часо́ вня сяме́ йская была́ (Бич., Бич.); Вот отпева́ ть , кади́ льницей э́ так разма́ хивать – э́ то всё сиби́ рская мо́ да была́ , у нас не так (Бич., Бич.); Эта у́ лица так и называ́ ется Сиби́ рская , там сибиряки́ живут (Куйт., Тарб); На тэй у́ лице одни́ сибиряти́ живу́ т , семе́ йских не́ ту-ка (Куйт., Тарб.) [СГССЗ, 1999. С. 427].
-
2. Оппозиция «семейский – расейский». Несмотря на оппозицию «семейский – сибиряк», семейские все-таки причисляют себя к жителям Сибири и по региональному признаку противопоставляют себя выходцам из европейской части России – Расеи , называя последних расейскими , западниками : Ра́ ньше в сарахва́ нах ходи́ ли , бра́ во. Пото́ м зале́ зную доро́ гу стро́ или – за́ падники пришли. Они́ отыма́ лками ( отымалка перен. ‘о неряшливом человеке’) ходи́ ли в ла́ пках (‘лаптях’) кати́ х-то – плетёнках за́ падных , в ко́ хтах , ю́ бках ходи́ ли. Ой , мы дикава́ ли (‘удивлялись’), на них гляде́ ть бе́ гали , чу́ дно бы́ ло. А пото́ м то́ жа отыма́ лками ходи́ ли в ко́ хтах , юбках , из мяшко́ в ши́ ли (Шал., Тарб.) [Дарбанова, 2007. С. 140]; Они ра-се́ йские , суды́ к нам прие́ хали с Расе́ и , да тут и оста́ лися. (Где?) Да у нас , у семе́ йских , у Со-лонца́ х. (Откуда именно они приехали?) Да с Расе́ и , а уот уж отку́ дова , не приду́ маю (‘не вспомню’)… Я-то кого́ , ма́ ленька была́. Эта на́ до стари́ нных ба́ ушек поспра́ шивать , ба́ ушку Соломони́ ду а́ли кого́ ишо́ (Шал., Тарб.) (материалы экспедиций автора).
Парадоксальность этой оппозиции в том, что, как известно, сибиряками называют всех жителей Сибири, а семейские Бурятии, будучи также частью населения Сибири, себя сибиряками не считают. Однако эта на первый взгляд алогичная оппозиция объясняется диалектным значением слова сибиряк и его производных – так семейские именуют потомков первых русских поселенцев – старожилов, мигрантов первой волны заселения Сибири с XVI до середины XVIII в.
Оппозиция «семейский – расейский» также основывается на значении диалектных лексем, известных всем русским говорам Сибири: Расея ‘наименование европейской части России’, расейский ‘житель европейский части России’.
Парадокс религиозной идентификации:оппозиция «православный – семейский»
Согласно своему религиозному мировоззрению, старообрядцы считают себя единственными носителями истинной веры, существовавшей до раскола церкви, и противопоставляют себя православным , называя так представителей русской православной церкви: А в Нары́ не – с повеко́ н веко́ в смесь там: и правосла́ вные , и сяме́ йсти , и буря́ ты (Леон., Киж.) [СГССЗ, 1999, с. 446]; Отпева́ ють поко́ йника у сяме́ йских уста́ вшики , а у правосла́ вных – поп (С. Брянь, Заигр.) [Там же. С. 489]; Ба́ тя – сибиря́ к правосла́ вный , а ма́ тка – семе́ йская (Б. Кун., Тарб.) [Там же, с. 427]; Кары́ м (‘представитель русского населения Забайкалья, потомок смешанного брака русских и бурят’) – не то́ лько буря́ ты , правосла́ вный то́ же кары́ м , усе́ , у кого́ ве́ ра друга́ я (Хас., Хор.); У нас не ходи́ тя , там карымы́ , сяме́ йстих не́ ту-ка (Хас., Хор.) [Там же. С. 195].
Парадоксальность этой оппозиции обусловлена исконной принадлежностью старообрядчества православию. Лексема православный в говоре семейских утратила прежнее значение, развив диалектное ‘не семейский, не старообрядческий’. Такое изменение семантики, безусловно, мотивировано экстралингвистическим фактором – субконфессиональными разногласиями между направлениями православия.
Итак, основными внутригрупповыми и внешними идентифицирующими признаками се-мейских, маркирующими их принадлежность к группе, являются:
-
• языковые признаки (сохраняющиеся южнорусские черты в говорах семейских, несмотря на ассимилирующее воздействие русских старожильческих говоров, северорусских по происхождению);
-
• религиозные признаки (приверженность старообрядчеству, русское старожильческое население Забайкалья исповедует официальное православие);
-
• традиционные культурно-бытовые признаки (внешний вид поселений семейских, архитектура и внутреннее убранство домов, традиционная одежда, специфика духовной культуры, обусловленная принадлежностью к старообрядчеству).
Иерархия по значимости идентификационных признаков варьирует в зависимости от внешней или внутригрупповой идентификации. Для семейских при самоидентификации конфессиональная принадлежность является первичной, а языковые и культурно-бытовые особенности – вторичными, осознаваемыми только в ситуации сопоставления при непосредственном контакте. Напротив, в ситуации внешней идентификации на бытовом уровне при-марными становятся языковые и культурно-бытовые признаки, а вторичным признаком – религиозный. Вероятно, это обусловлено, во-первых, общей идеологической и политической ситуацией в России XX в., характеризующейся широким распространением атеистического мировоззрения и, как следствие, отсутствием демонстрации семейскими, как, впрочем, и всеми членами социума, своих религиозных взглядов. Сокрытие старообрядцами своей принадлежности к древлеправославию имеет давнюю историю, начавшуюся с момента появления старообрядчества как протестной формы против нововведений патриарха Никона и продолжавшуюся до конца прошлого века.
Таким образом, трансформация некоторых внешних (формальных) и внутренних (мировоззренческих) идентификационных признаков вызвана широким наступлением современной жизни и вытеснением на периферию рефлексов традиционной культуры семейских.
Определенная групповая самоидентификация семейских сосуществует с флуктуацией их этнической, региональной и религиозной идентичности, выражающейся в парадоксальных оппозициях «семейский – русский», «семейский – сибиряк», «семейский – православный», последние из которых при ближайшем рассмотрении не парадоксальны и являются следствием развития диалектных значений слов сибиряк и православный . Оппозиция «семейский – русский» обусловлена выделенностью семейских на общем фоне русского населения Забайкалья благодаря контрастности и культурной значимости маркирующих эту группу идентифицирующих признаков. И именно фактор выделенности семейских способствует сохранности их как специфической группы русского народа, несмотря на «дрейф» идентичности.
Список литературы Парадоксальность самоидентификации в речи семейских Забайкалья
- Дарбанова Н. А. Лексикографическое описание экспрессивной лексики говоров старообрядцев Забайкалья. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. 222 с.
- Майоров А. П. Словарь русского языка XVIII века: Восточная Сибирь. Забайкалье. М.: Азбуковник, 2011. 584 с.
- Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / Т. Б. Юмсунова, А. П. Майоров, Н. А. Дарбанова и др.; под ред. Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск: Издательство СО РАН, Научно-издательский центр ОИГГМ, 1999. 540 с.