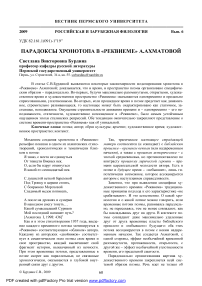Парадоксы хронотопа в «Реквиеме» А.Ахматовой
Автор: Бурдина Светлана Викторовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 6 (6), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье С.В.Бурдиной выявляются некоторые закономерности моделирования хронотопа в «Реквиеме» Ахматовой; доказывается, что и время, и пространство поэмы организовано специфическим образом - парадоксально. Во-первых, будучи максимально разомкнутыми, открытыми, художественное время и художественное пространство «Реквиема» оказываются одновременно и предельно спрессованными, уплотненными. Во-вторых, если прошедшее время в поэме предстает как динамичное, стремительно развивающееся, то настоящее может быть охарактеризовано как статичное, застывшее, неподвижное. Ощущение стремительности движения времени и - одновременно - его неподвижности, статичности, художественно воплощенное в «Реквиеме», было самым устойчивым ощущением эпохи сталинских репрессий. Обе тенденции окончательно закрепляют представление о системе времени-пространства «Реквиема» как об уникальной.
Поэма, автор, образ культуры, архетип, художественное время, художественное пространство, контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/14728810
IDR: 14728810 | УДК: 82.161.1(091)-1??19??
Текст научной статьи Парадоксы хронотопа в «Реквиеме» А.Ахматовой
Механизм создания хронотопа в «Реквиеме» рельефно показан в одном из ахматовских стихотворений, хронологически и тематически близком к поэме:
Я знаю, с места не сдвинуться
От тяжести Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.
С душистой веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать,
А после на дровнях и сумерки
В наводном снегу тонуть…
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?
[Ахматова I, 1998: 436]1
Как и в этом стихотворении 1937 года, введение каждого временного потока мотивируется в «Реквиеме» соответствующим «обликом» автора. Каждому из авторских «двойников» соответствует в семантическом поле поэмы свое время и свое пространство, каждый высвечивает свой фрагмент истории, выхваченный из вечности. При этом временные потоки, представленные в поэме скорее как параллельные, не связанные хронологически, оказываются в глубокой внутренней связи друг с другом.
Так, трагическое настоящее страдающей матери соотносится (и совпадает) с библейским прошлым – временем вечным (или надвременным началом), а также с прошлым историческим – с эпохой средневековья, но противопоставлено по контрасту прошлому лирической героини – времени царскосельской молодости автора. Есть в поэме и будущее время – «небывшее», лишь гипотетически возможное, которое ассоциируется автором с наступлением справедливости.
Заметим, что при выявлении специфики художественного времени «Реквиема» традиционные принципы подхода к его характеристике «не срабатывают». И это естественно. О какой хронологии и о какой логике можно говорить, если временные потоки поэмы, развиваясь параллельно, не пересекаясь, тем не менее совпадают, как бы накладываясь друг на друга. В контексте поэмы совпадают даже максимально удаленные друг от друга временные пласты библейского прошлого и «небывшего» будущего: оба этих потока ассоциируются в поэме с неким надвременным началом. Так создается Ахматовой, с одной стороны, эффект необычайной временной разомкнутости, протяженности, открытости, с другой же – эффект необычайной уплотненности времени, его предельной сжатости.
Парадоксально организованная картина художественного времени закрепляется всей системой образов поэмы. Речь идет не только об
образах-двойниках героини – культурных «зеркалах», которые призваны актуализировать параллелизм временных потоков. Так, остановившееся Апокалиптическое время передается, в частности, с помощью образа звезды, которая «…в глаза глядит / И скорой гибелью грозит», как и те «звезды смерти», которые «стояли над нами». Большинство образов поэмы отмечены «знаком» времени вечного : это и «звезда полярная», и «ночи белые», и «следы куда-то в никуда», и «горячая слеза». Это, естественно, и все библейские образы поэмы: «великой реки», «креста высокого», смерти.
Подобным, парадоксальным, образом оказывается организованным в поэме и пространство.
Сущность художественного пространства «Реквиема» в полной мере можно представить лишь обратившись к поэтическим «двойникам» автора – историческим и культурным его «зеркалам». Обусловленность принципов оформления пространства (линии горизонтали) «историкогеографической» спецификой облика автора заявлена здесь достаточно прямо. Два центральных локуса «Реквиема» – это Кресты, тюрьма в Ленинграде, где «под красною, ослепшею стеной» героиня «стояла… триста часов», и – дом, где происходит прощание с сыном и последняя схватка смерти и безумия. Оба эти локуса связаны с настоящим временем поэмы. Но за зловещим настоящим, за «кровавой пленкой сталинского режима зияет глубинная историческая ретроспектива – из Ленинграда, Царского Села уводящая в допетровскую Русь и далее – к истокам крестной христианской мистерии» [Кублановский 1992: 160]. Так что пространство «Реквиема» – это также и Москва, и Дон, и Енисей, и Нева.
Все эти географические указатели в буквальном, а не переносном смысле становятся в поэме знаками культуры – «вечными образами» культуры. Причем в тексте «Реквиема» они не только являются своеобразным шифром, семантическим ключом к прочтению главы или фрагмента, но и порождают (такова особенность текста «аккумулирующего типа», коим, безусловно, является и «Реквием») новые образы культуры. В какой-то степени «географически» (хотя не только, конечно) присутствуют в поэме Пушкин и Блок. С помощью «географических» знаков обнаруживает себя образ Н.Гумилева. Именно «географией» вводится в «Реквием» и образ Мандельштама. В этом плане символичным представляется название написанного в 1937 году и посвященного Мандельштаму стихотворения – «Немного географии». Надо сказать, что и само это стихотворение, писавшееся параллельно с поэмой, можно использовать как своеобразный ключ к прочте- нию «Реквиема»: географические названия реконструируют здесь не только маршруты высылаемых в лагеря арестованных друзей Ахматовой, но прежде всего судьбу и биографию Мандельштама. В поэме образ Мандельштама также возникает через цепочку географических названий. Каждый из этих географических знаков: Петербург, «…воспетый первым поэтом, / Нами грешными – и тобой» (т.е. Мандельштамом. – С.Б.) (1: 437), Дон, Енисей – оказывается тесно связанным с биографией поэта.
Особое место в мандельштамовском контексте «Реквиема» занимает, безусловно, образ сибирской реки Енисея ; его появление в последней строфе главки «К смерти» обретает символический смысл:
Мне все равно теперь. Струится Енисей, Звезда полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас затмевает (3: 27).
Очевидно, что все образы процитированного фрагмента восходят к стихотворению О.Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931, 1935) – важнейшему пра-тексту «Реквиема»:
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет
[Мандельштам 1990: 171].
О том, что строки Ахматовой представляют собой скрытую цитату из стихотворения О.Мандельштама, «вживленную» (А.Найман) в ткань стиха так, как умела это делать лишь Ахматова, свидетельствует не только, конечно, образ Енисея, но и появляющийся вслед за ним – совсем как у Мандельштама, в соответствии с логикой его стихотворения, – образ звезды. Кстати, обратим внимание и на то, что Ахматова, вслед за Мандельштамом помещая слово «Енисей» в позицию максимального смыслового акцента (это последнее слово строки, поставленное к тому же в рифму), тем самым намеренно выделяет его.
Образ Енисея открыто отсылает к судьбе Мандельштама, позволяет осмыслить ее в семантическом пространстве всей поэмы как знаковую. Перекличка образного ряда двух поэтических фрагментов, осознанная ориентация Ахматовой на общую интонацию прецедентного текста – все это служит способом шифровки содержания знаменитого стихотворения о «веке-волкодаве», заставляет его «работать» в семантическом пространстве поэмы.
Тень Мандельштама, как справедливо считает Е.Г.Эткинд, сливается в «Реквиеме» с тенью сына. Думается, что образ Мандельштама стоял перед глазами Ахматовой и тогда, когда она писала другие, также обращенные к сыну, строчки, – те, что позднее вошли в качестве одной из трагических миниатюр в цикл «Черепки». В тексте стихотворения знаком этой «общей» трагической судьбы, судьбы, которую разделили многие современники Ахматовой, также стал Енисей, точнее «Енисейские равнины». Через упоминание о месте сибирской ссылки Мандельштама и происходит здесь семантически значимое совмещение, наложение образов сына и «опального поэта». С горечью и болью говоря о сыне, Ахматова, несомненно, обращалась мысленно и к своему погибшему другу:
Вот и доспорился, яростный спорщик,
До Енисейских равнин…
Вам он бродяга, шуан, заговорщик,
Мне он – единственный сын (1: 452).
К 1940 году, к тому времени, когда предположительно и было написано это четверостишие, Ахматова уже точно знала о смерти Мандельштама, умершего около Владивостока во время эпидемии сыпного тифа. А вот в августе 1939 года, когда писалась главка «К смерти», Ахматова могла лишь догадываться об этом. Тем поразительнее тот факт, что среди возможных обличий смерти в том же фрагменте, обращенном к Мандельштаму, видится поэту и такой:
Прими для этого какой угодно вид, Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом… (3: 26)
Знаком мандельштамовского текста является в поэме и образ Дона . Его возникновение здесь также вполне можно связать с судьбой Мандельштама. Известно, что с 1935 года поэт находился в ссылке в Воронеже и, конечно, бывал на Дону. Подтверждением этого могут быть воронежские стихи поэта, в частности стихотворение «Пластинкой тоненькой жилета…» (1936), в котором Мандельштам связывал Дон с русской историей. О том, что образ Дона ассоциативно вызывал в сознании Ахматовой образ Мандельштама, свидетельствует и ее стихотворение «Воронеж», написанное в 1936 году после посещения близкого друга и посвященное О.Мандельштаму. Образ Дона неизбежно возникает здесь за упоминанием о Куликовской битве. Интересно, что в «Реквиеме», наоборот, образ Куликовской битвы возникает за образом Дона – через заявленный автором в качестве прецедентного текста цикл Блока «На поле Куликовском».
Образ Дона в «Реквиеме» является полигенетичным, своим происхождением он обязан не только, конечно, Мандельштаму. Известно, что на вопрос Э.Герштейн о том, почему в «ленин-
градском стихотворении откликнулась река Дон», Ахматова «ответила уклончиво: “Не знаю, может быть, потому, что Лева ездил в экспедицию на Дон?” …Она сказала также, что “Тихий Дон” Шолохова был любимым произведением Левы» [Герштейн 1993: 152]. Однако в большей степени образ тихого Дона Ахматова связывала все же не с Шолоховым, а с Пушкиным. Начальные строки колыбельной «Тихо льется тихий Дон» заставляют вспомнить «Кавказского пленника» («Простите, вольные станицы, /И дом отцов, и тихий Дон…).
О том, что Дон для Ахматовой во многом был связан именно с Пушкиным, упоминает и П.Лукницкий, рассказывая в одной из записей 1927 года о поездке Ахматовой в Кисловодск: «Читала Пушкина “Дон” в поезде – и когда туда, и когда обратно ехала и проезжала Дон» [Лук-ницкий 1997: 279].
Устойчивый фольклорный образ тихого Дона обнаруживает у Ахматовой и родство с русскими историческими песнями. «Поднимает» этот образ и семантический пласт памяти, связанный с Лермонтовым и Некрасовым. Колыбельная «Реквиема» удивительно близка известным колыбельным песням – лермонтовской «Спи, младенец мой прекрасный…» и некрасовской «Спи, пострел, пока безвредный…». Некрасов же, как известно, назвал свою колыбельную «Подражание Лермонтову», а колыбельная Лермонтова имеет название « Казачья колыбельная песня» (курсив мой – С.Б .). Возможно, что все эти моменты также необходимо учитывать, выясняя генеалогию одного из центральных образов «Реквиема».
Ахматовский образ тихого Дона выдает в «Реквиеме» и присутствие Блока. Блоковский контекст проявлен в поэме отчетливо. Совпадения фрагмента из цикла «На поле Куликовом» со второй главкой «Реквиема» слишком существенны, чтобы считать их случайными. И не последнюю роль в этом играет образ Дона, «темного и зловещего» у Блока, тихого – у Ахматовой. С помощью все того же географического «шифра» – через образ Дона – вводится в поэму и образ Н.Гумилева: колыбельная «Тихо льется тихий Дон…», написанная Ахматовой вскоре после второго ареста сына, Л.Гумилева, заканчивается трагическими строчками: «Муж в могиле, Сын в тюрьме. / Помолитесь обо мне». «Мужем», как известно, Ахматова всю жизнь называла лишь Н.Гумилева.
Почему же в колыбельной о тихом Доне возникает образ Н.Гумилева? Почему именно образ Дона подготавливает появление образа Н.Гумилева в поэме?
На обороте фронтовой фотокарточки, присланной Н.Гумилевым в 1914 году с фронта, рукой поэта записаны две поэтические строфы. Одна из них – блоковская, из цикла «На поле Куликовом», другая принадлежит самому Н.Гумилеву. Текст этой записи приводит П.Лук-ницкий:
«Анне Ахматовой.
Я не первый воин, не последний, Долго будет родина больна… Помяни ж за раннею обедней Мила-друга, тихая2 жена!
А.Блок
8 октября 1914 г.
Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде,
– Где теперь эти сильные руки,
Эти души горящие, где!
Н.Гумилев
Куры и гуси!» [Лукницкий 1997: 324-325].
По воспоминаниям Э.Герштейн, во время свидания в тюрьме Л.Н.Гумилев, уже прощаясь с матерью, процитировал именно эти, выписанные его отцом на фотографии, строки Блока [Герштейн 1993: 145], напомнив таким образом и о других – принадлежащих Н.Гумилеву. Без сомнения, прав Р.Тименчик, утверждая, что «блоковская цитата в устах заключенного Л.Гумилева была цитатой и из его отца» [Тименчик 1994: 215]. Этот факт как раз и помогает понять, почему образ Н.Гумилева возникает в поэме Ахматовой именно через блоковский контекст, почему колыбельная «Реквиема», будучи тесно связанной со стихотворением Блока «Мы, сам-друг, над степью в полночь встали…», заканчивалась упоминанием о Гумилеве: «Муж в могиле, сын в тюрьме…», соединяя к тому же в едином контексте судьбу отца и сына.
Совмещение строф из стихотворений Гумилева и Блока на обороте фронтовой фотографии – «перекличка» и пересечение «двух голосов» в точке 1914 года, разумеется, имело символический смысл. Именно в результате такого наложения семантических полей и возникла колыбельная «Реквиема» с ее образом тихого Дона и финальными строчками о муже и сыне. Однажды совпавшие два поэтических голоса совпали и еще раз, через 24 года – при прощании Л.Гумилева с матерью во время тюремного свидания, чтобы затем уже окончательно слиться – в контексте «Реквиема». Контаминируя в семантическом пространстве поэмы «вечные образы» культуры (и «вечные образы» своего текста), Ахматова тем самым обозначает истинный масштаб созданного ею обобщения.
Кстати, блоковское стихотворение «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали…» из цикла «На поле Куликовом» отзовется в поэме еще не раз. Намеренно ориентируясь на текст Блока, Ахматова, казалось бы, несколько переосмысливает блоковскую трактовку «вечной» коллизии мать – сын. Если у Блока «бьется» и «голосит» мать («И вдали, вдали о стремя билась, / Голосила мать» [Блок 1971: 159]), то у Ахматовой «бьется» и «рыдает» Мария Магдалина («Магдалина билась и рыдала ...»). Можно было бы считать этот ахматовский «отклик» достаточно полемичным по отношению к Блоку, если бы не совпали поэты в другом, безусловно более принципиальном. Вслед за Блоком (и вслед за Некрасовым) Ахматова отводит матери самое незаметное место в организованном ею лирическом пространстве. Страдания матери сокрыты ото всех, слезы ее не видны никому. У Ахматовой: «… туда , где молча мать стояла, / Так никто взглянуть и не посмел». У Блока: «...И вдали, вдали о стремя билась, / Голосила мать». У Ахматовой выделено указательное местоимение «туда» (как на начальное слово строки на него падает смысловой акцент, который усиливается союзом «где»), у Блока же – наречие «вдали», повторенное трижды (третий раз – в следующей строке).
Итак, убедившись в наличии блоковского и гумилевского контекста в «Реквиеме», вернемся к образу, который и помог эти контексты в поэме обнаружить, – к образу Дона. Знаковая природа этого образа в тексте поэмы не вызывает сомнений, именно поэтому образ Дона, в чем мы наглядно убедились, может рассматриваться и как своеобразный шифр ко всему произведению. Будучи полигенетичным, он одновременно отсылает к нескольким своим источникам, к нескольким культурным контекстам. Механизм формирования образа Дона как образа полигенетичного со всей очевидностью обнажает контаминация в поэме образов Блока и Гумилева.
Отсылая к образам Гумилева, Блока, Мандельштама, Пушкина, Ахматова актуализировала, в свою очередь, и семантические поля их поэзии, подключала их к своему тексту, заставляя работать в нем. Собственно, все они, эти культурные контексты, должны были выявить принципиальную для автора «Реквиема» мысль – ту самую, блоковскую, о болезни родины: «Я не первый воин, не последний…» Аккумулируя значения, взятые из разных культурных источников, образ Дона тем самым необычайно увеличивал и свою смысловую емкость. При этом неповторимое значение образа не только не терялось, а как раз наоборот: на пересечении и совмещении этих культурных и исторических кон- текстов он обретал смысловую глубину и эпический потенциал.
Таким образом, главной особенностью организованного в поэме художественного пространства явилось создание Ахматовой эффекта семантической бесконечности, или культурной «перспективы». В «Реквиеме» эффект максимальной разомкнутости художественного пространства достигается не только, конечно, путем формального введения географических названий; главное – те семантические пласты, которые за этими названиями возникают. Обычные географические понятия становятся в тексте Ахматовой «вечными образами» культуры, более того, они и сами вводят в произведение «вечные образы» – через контексты поэзии Мандельштама, Блока, Гумилева. Так создается эффект разомк-нутости и уплотненности одновременно . Так формируется универсальная в творчестве Ахматовой модель художественного пространства . Подобную специфику организации пространства «Реквиема» демонстрирует не только выпукло прочерченная в поэме линия горизонтали. Не менее интересно посмотреть с этой точки зрения и на оформление линии вертикали .
Обратившись к тексту поэмы, обнаружим, что все образы поэмы оказываются по сути либо образами «вознесения», либо «заземления». Так, семантику вознесения несут в поэме образы солнца, лунного круга, месяца, звезды, гор, ангелов, заката, души и т.д. Образы «верха», «неба» противостоят в пространстве «Реквиема» предельно заземленным образам, в ряду которых – «каторжные норы», «кровавые сапоги», «шины черных марусь» и др.
Основанный на антитезе земли и неба принцип решения пространственной вертикали в поэме обусловливает особенности построения всего произведения, но наиболее отчетливо он проявляется в «Посвящении»:
Перед этим горем гнутся горы ,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы , А за ними «каторжные норы» И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат –
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат (3: 22).
Все «Посвящение» построено на антитезе «верха» и «низа», неба и земли. Два ряда жестко противопоставленных образов, реконструируя основную оппозицию поэмы, призваны были в «Посвящении» противопоставить друг другу и два мира, две жизни, два состояния героини: до объявления приговора и после – «после конца».
Основанную на той же антитезе пространственную модель реконструирует и «Вступление» «Реквиема». Звезде, образу «вознесения», противопоставлены здесь образы предельного, казалось бы, «заземления»: «кровавые сапоги» и «шины черных марусь».
Кстати, в поэме обозначено и само направление движения по оси вертикали. Это преимущественно движение вниз, к земле, что, безусловно, символично в контексте всей поэмы: « Кидалась в ноги палачу…» (3: 25); «…Словно грубо навзничь опрокинут …» (3: 22); «…И безвинная корчилась Русь / Под кровавыми сапогами И под шинами черных марусь» (3: 23); «И упало каменное слово» (3: 26); «Узнала я, как опадают лица…» (3: 28); «Перед этим горем гнутся горы…» (3: 22); «…Солнце ниже и Нева туманней…» (3: 22); «И сразу слезы хлынут …» (3: 22). В «Реквиеме» художественно воссоздается и противоположное по направленности движение: снизу – вверх (« Подымались , как к обедне ранней»), но не оно, как было сказано, оказывается в поэме определяющим. Примечательным для нас является здесь и тот факт, что в «Реквиеме» четко проявлена тенденция движения как такового. Точки «неба» и «земли» на оси координат не «зашкаливают», что свидетельствует об отсутствии в поэме каких бы то ни было пространственных ограничителей.
В создании эффекта разомкнутого пространства участвует в «Реквиеме» и звуковое оформление поэмы, в основе которого также лежит оппозиция – предельно громких и предельно тихих звуков, контрастных по звучанию интонаций.
Итак, и время, и пространство поэмы организовано Ахматовой специфическим образом – парадоксально. Будучи максимально разомкнутыми, открытыми, художественное время и художественное пространство «Реквиема» оказываются одновременно и предельно спрессованными, уплотненными. Парадоксальный характер хронотопа «Реквиема» проявляется и еще в одной его особенности. Нельзя не увидеть, что если прошедшее время в поэме предстает как динамичное, стремительно развивающееся, то настоящее может быть охарактеризовано как статичное, застывшее, неподвижное. Иначе, как апокалиптическим, его не назовешь. В свою очередь, это апокалиптическое настоящее перевернуло, исказило и пространственные параметры, нарушив устойчивые представления и пропорции в художественной картине мира. Ощущение стремительности движения времени и – одновременно – его неподвижности, статичности, художественно воплощенное в «Реквиеме», было самым устойчивым ощущением эпохи сталинских репрессий, когда рушились привычные представления, распадалась естественная и предсказуемая связь времен и явлений. Обе названные тенденции окончательно закрепляют представление о системе времени-пространства «Реквиема» как об уникальной, специфической.
-
1 Ахматова А.А. Собр. соч.: В 6т. М.: Эллис Лаг, 1998. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы в круглых скобках.
-
2 У Блока – «светлая жена» [Блок 1971: 159]. Данное искажение в цитате Р.Тименчик считает показательным [Тименчик 1994: 216].
Список литературы Парадоксы хронотопа в «Реквиеме» А.Ахматовой
- Ахматова А.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Эллис Лаг, 1998.
- Ахматова А.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М.: Эллис Лаг, 1998.
- Блок А.А. Собрание сочинений: В 6 т. Т.3. М.: Правда, 1971.
- Герштейн Э. Лишняя любовь. Сцены из московской жизни//Новый мир. 1993. № 12. С.139-174.
- Кублановский Ю. О «Реквиеме» Анны Ахматовой//Волга. 1992. № 11-12 С.158-164.
- Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой: В 2 т. Т.2. 1926-1927. Париж, М.: YMSA-PRESS, 1997.
- Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т.1. М.: Худож. лит., 1990.
- Тименчик Р. К генезису ахматовского «Реквиема»//Новое лит. обозрение. 1994. № 8. С.215-216.
- Эткинд Е.Г. Бессмертие памяти. Поэма Анны Ахматовой «Реквием»//Эткинд Е.Г. Там, внутри. О русской поэзии ХХ века. СПб.: Максима, 1997. С.343-368.