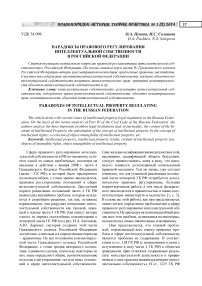Парадоксы правового регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации
Автор: Пучков Олег Александрович, Солопова Надежда Саввична
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Гражданское право и процесс
Статья в выпуске: 1 (2), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальным вопросам правовой регламентации интеллектуальной собственности в Российской Федерации. На основе анализа норм части IV Гражданского кодекса Российской Федерации авторы рассматривают важнейшие проблемные правовые институты, в частности содержание института интеллектуальной собственности; подмена объектов интеллектуальной собственности понятием интеллектуальных прав; критерий нематериальности объектов интеллектуальной собственности и др.
Интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной собственности, содержание права интеллектуальной собственности, объекты нематериальных прав, нематериальность объектов интеллектуальной собственности
Короткий адрес: https://sciup.org/14118841
IDR: 14118841
Текст научной статьи Парадоксы правового регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации
Сфера правового регулирования интеллектуальной собственности в РФ по-прежнему остается одной из самых проблемных, несмотря на введение в действие с января 2008 г. части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой было предпринято полномасштабное, с точки зрения законодателя, правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. Двухлетний период реализации положений части 4 ГК РФ выявил ряд важнейших проблем, которые нуждаются в скорейшем решении, так как, оставаясь нерешенными, они разрушат концепцию интеллектуальной собственности как таковой, лежащей в основе части 4 ГК РФ. Как пишут авторы одного из первых постатейных комментариев к четвертой части ГК РФ (под ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина): «история создания этой части Гражданского кодекса Российской Федерации достаточно длительна и в определенные периоды – драматична. Не все положения комментируемой части Гражданского кодекса Российской Федерации, с точки зрения авторского коллектива, одинаково удачны, поскольку некоторые из них лишь определяют общие, основополагающие подходы к регулированию тех или иных отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Саму же идею кодификации законодательства в этой, несомненно, специфической области, безусловно, следует приветствовать, имея в виду, что наконец-то появился долгожданный комплексный правовой механизм. Тем не менее, уже сегодня очевидно, что для успешной реализации положений части четвертой ГК РФ потребуется дополнительное правовое регулирование, большая нормотворческая работа, в том числе федерального законодателя и правительства, а также соответствующих министерств и ведомств» [1, с. 3]. В основе же этой работы, как нам представляется, лежит четкое определение проблематики в сфере правового регулирования интеллектуальной собственности. Не претендуя на полномасштабный анализ всех этих проблем, остановимся на некоторых, на наш взгляд, самых значительных и интересных.
Нам представляется, что главной проблемой, порождающей весь спектр правовых проблем в сфере интеллектуальной собственности, является проблема ее содержания. В соответствии со ст. 128 ГК РФ (с изменениями в связи с вступлением в силу части 4 ГК РФ) к объектам гражданских прав относятся «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). В ст. 1225 ГК РФ термином «интеллектуальная собственность» охватываются результаты интеллектуальной деятельности, то есть то, что можно реально оценить как результат - то есть результат творческого труда, выраженный в какой-то объективной форме, которая чаще всего ассоциируется с материальным носителем. В ст. 1225 ГК РФ в качестве исчерпывающего перечня объектов интеллектуальной собственности указываются такие результаты интеллектуальной деятельности: «1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронно-вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы: 6) сообщения в эфир или по кабелю радио- или телевизионных передач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изображения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименование мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения». Этот перечень является закрытым, то есть федеральный законодатель сделал вывод, что другие объекты интеллектуальной собственности появиться не могут. Этот вывод является не только ошибочным, но он противоречит общему и открытому подходу к пониманию интеллектуальной собственности, сформулированному во Всемирной декларации по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г. Интеллектуальная собственность трактуется в декларации «как совокупность абсолютных прав человека на блага, признаваемые интеллектуальными по характеру, и заслуживающие охраны, включая, но не ограничиваясь, научными и техническими изображениями, литературными или художественными произведениями, товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными образцами и географическими указаниями» [6, с. 1].
Как видим, перечень объектов является открытым, но появляется другая проблема, связанная с подменой «объекта интеллектуальной собственности» понятием «интеллектуальных прав», что не представляется оправданным в силу принципиальной разницы этих объективных и субъективных правовых категорий. В статье 1226 ГК РФ эта новелла находит свое развитие, то есть подтверждает факт, что в качестве предмета гражданского оборота выступают не сами объекты интеллектуальной собственности, а права на них. «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, являющиеся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, - также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)». Не вникая пока в проблематику этих прав, остановимся на вопросе: что такое права, «признаваемые интеллектуальными по характеру», о которых записано во Всемирной декларации по интеллектуальной собственности? Это, безусловно, ключевой критерий, позволяющий наращивать объекты интеллектуальной собственности, пока не указанные в нормативных актах как национального, так и международного уровня.
Нам представляется весьма убедительной точка зрения Р.А. Мерзликиной, что «результат интеллектуальной деятельности отличается от всех иных объектов гражданского права наличием у них двух признаков: во-первых, они нематериальные (курсив наш - Авт.); во-вторых, носят творческий характер. Сочетание этих двух признаков и делает их отличными от всех остальных объектов гражданского права» [2, с. 92]. Таким образом, характер чего-либо должен рассматриваться как своеобразный отпечаток, признак, отличительная черта. Начнем с первой отличительной черты - нематериальности. Определение ее отсутствует в Советском энциклопедическом словаре (М., 1979), в философском энциклопедическом словаре (М., 1985), в словаре русского языка (сост. С.И. Ожегов. М., 1953), в юридической энциклопедии (Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. М., 2007) и т. д. Определение немате-риальности отсутствует и в части 4 ГК РФ. Отсюда следует вывод, что само определение содержания интеллектуальной собственности неполноценно, поверхностно, а значит, не способно отражать всю полноту объектов интеллектуальной собственности. Традиционно в российском правоведении понятие нематериальности сводится к чисто практическому применению без вкладывания в него абсолютно однозначного теоретического смысла. Так, авторы «Юридической энциклопедии» Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров в статье «нематериальные блага» просто перечисляют их, не давая им определение: это «жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места проживания и места жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права» [4, с. 542].
Таким образом, нематериальность отождествляется с явлением, противоположным имущественному праву. Признать факт, что интеллектуальная собственность может иметь особое состояние, не связанное с имущественным правом, - значит разрушить стройную концепцию интеллектуальной собственности, вполне сопоставимую с правом собственности на вещь, заложенную в ч. 4 ГК РФ. Но эта стройная концепция то и дело дает сбой, что не позволяет адекватно применять ее на практике. Обратимся к примеру, связанному с объектами авторского права, которые наряду с объектами патентного права, а также с объектами смежных с авторскими и патентными правами, входят в общий круг объектов интеллектуальной собственности. В мировой практике правового регулирования сферы интеллектуальной собственности, так же, как и в действовавшем до 1 января 2008 г. Федеральном законе «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 535 укоренился четкий перечень этих объектов по критерию сферы их возникновения - произведения науки, литературы и искусства. Такой подход не отрицается и в части 4 ГК РФ, но, тем не менее, вызывает недоумение ч. 1 ст. 1255 ГК РФ, которая, определив, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, абсолютно абстрагируется от перечисления произведений науки. Перечисление объектов начинается с литературных произведений и заканчивается программами для ЭВМ: «литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом и без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративноприкладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, созданные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие произведения. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются, как литературные произведения».
Безусловно, что карты, планы, эскизы и пластические произведения не представляют собой содержания произведения науки. Более того, в п. 5 ч. 2 ст. 1259 ГК РФ содержится положение, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Иными словами, к объектам авторского права, как, впрочем, и вообще к объектам интеллектуальной собственности, федеральный законодатель не относит их фундаментальный признак - нематериальность, так как те объекты, которые перечислены в ч.1 ст. 1255 ГК РФ, вполне материальны, поскольку всегда ассоциируются с конкретной объективной формой выражения.
Возникает также вполне закономерный вопрос: как произведение науки может быть создано без идей, концепций, принципов, методов, фактов и т. д., которые, по нашему мнению, составляют концепт произведения науки. Известно, что на каждом этапе своего развития научное познание, лежащее в основе произведения науки, «использует определенную совокупность познавательных форм - фундаментальных категорий и понятий, методов, принципов и схем объяснения, то есть всего того, что объединяют понятием стиля мышления» [5, с. 404]. Также ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что произведение науки может носить теоретический или прикладной характер. А в последнем случае важнейшими элементами такого произведения будут являться факты, получаемые с помощью наблюдений и экспериментов и констатирующие качественные и количественные характеристики явлений и объектов.
Таким образом, следует отметить «уход» законодателя от анализа содержания интеллектуальной собственности как нематериального явления, его ничем необоснованное стремление обязательно «привязать» объект интеллектуальной собственности к материальному носителю. Но «нематериальность» как имманентное свойство интеллектуальной собственности все равно прокладывает себе дорогу «через тернии» материального мира, постоянно доказывая свой приоритет. Так, в ч. 1 ст. 1227 ГК РФ устанавливается, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; а в ч. 2 ст. 1227 ГК РФ разграничивается правовой режим интеллектуальных прав и вещных прав, так как устанавливается, что переход права собственности на вещь не влечет перехода или предоставления интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженной в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1291 ГК РФ (при отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное).
«Таким образом, – делают вывод авторы постатейного комментария к четвертой части ГК РФ, – «переход права собственности на материальный носитель любого вида не влечет переход интеллектуальных прав на объекты, выраженные в этом материальном носителе » (курсив наш. – Авт.). То есть непостижимым, можно сказать, мистическим, образом, объект интеллектуальной собственности отрывается от своего материального носителя и обретает самостоятельное значение (можно даже сказать – приоритетное). Что же следует подразумевать под этим объектом? На наш взгляд, это образы, идеи, гипотезы и т. д., то есть то, что находится первоначально в сознании автора, в его специфическом мироощущении, что впоследствии может обрести объективную форму существования (образ может быть воплощен средствами живописи, ваяния, литературы). И форма эта уникальна, неповторима, оригинальна, как уникальны, неповторимы, оригинальны сознание автора и его мироощущение. В связи с этим вряд ли можно согласиться с мнением Р.Ш. Рахматуллиной, полагающей, что «оригинальное произведение по своим характерным чертам и по своей форме определяет индивидуальность автора» [6, с. 130]. Нам представляется, что все в действительности происходит наоборот.
Своеобразное пограничное состояние объектов интеллектуальной собственности (в частности, объектов авторского права), выражающееся в постоянном взаимодействии нематериального и материального их концептов, наиболее зримо проявляется в системе «иных прав», предусмотренных в части 4 ГК РФ. Иные права возникли в силу принципа двойственного характера авторского права, зафиксированного в ст. 1226, 1228, 1255, 1263, 1265-1270 и 1294 ГК РФ. Право на отзыв произведения (ст. 1269 ГК РФ), право доступа к произведениями изобразительного искусства, архитектуры (ст. 1292 ГК РФ), право авторов произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства на осуществление авторского контроля за разработкой документации для строительства и право авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной реализации соответствующего проекта (ст. 1294 ГК РФ), право следования (ст.1293 ГК РФ) – все они носят двойственный характер (одновременно имущественный и нематериальный). В связи с этим нельзя согласиться с мнением Е.А. Моргуновой, полагающей, что среди «иных прав есть «чисто» имущественные и «чисто» неимущественные. При этом последние автор личными тоже не называет, так как содержание их другое, связанное, на наш взгляд, с первичным признаком объектов интеллектуальной собственности – их нематери-альностью. Так, автор полагает, что «право на вознаграждение, право следования законодатель называет иными правами, эти права по своему содержанию являются имущественными» [3, с. 16]. Пограничное состояние объекта авторского права выражается в том, что использование произведений основано на принципах, которые существенно отличаются от принципов пользования вещью. «Под собственностью в классическом смысле слова понимается распорядительная власть над конкретной вещью. Владеть какой-либо вещью не значит иметь возможность запрещать любому другому лицу владеть такой же вещью. Классическая собственность, таким образом, представляет собой не слишком большое ограничение свободы других людей. Напротив, потребление объектов нематериальной собственности, не допускает соперничества [6, с. 27]. Право следования (ст. 1293 ГК РФ) устанавливает, что в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при каждой публичной продаже соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея изобразительных искусств, художественный салон, магазин или иная подобная организация, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (право следования). Право следования в соответствии с ч. 2 ст. 1293 ГК РФ распространяется на литературные и музыкальные произведения в отношении автографов (авторских рукописей) таких произведений. Тот факт, что право следования, как и другие иные права, имеет двойственный характер, подтверждается частью 3 данной статьи, в которой, по сути дела, разграничиваются понятия «оригинал произведения» и «результат интеллектуальной деятельности». Они явно не совпадают ни по объему, ни по содержанию. Результат интеллектуальной деятельности всегда двойственен с явным приоритетом нематериального концепта, а оригинал произведения, напротив, актуализирует материальный концепт объектов интеллектуальной собственности. Как справедливо отмечают авторы постатейного комментария к четвертой части ГК РФ (под ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина), «как следует из последнего пункта рассматриваемой статьи, право следования действует в течение срока действия исключительных прав на произведения, не может отчуждаться (курсив наш – Авт.) и переходит только к наследникам автора. Положения о невозможности отчуждения права следования призваны оградить автора и его наследников от попытки «выкупить» данное право одновременно с приобретением оригинала произведения» [1, с. 214]. Мы поддерживаем точку зрения Р.А. Мерзликиной, полагающей, что «во многих случаях объекты интеллектуальной собственности, будучи нематериальными объектами, «соединяются с материальными объектами, воплощаются в них. При этом объект интеллектуальной собственности не пропадает, не сливается с материальным объектом: оба объекта существуют по отдельности (курсив наш. – Авт.) [2, с. 92]. В связи с этим нормы права интеллектуальной собственности должны учитывать как общие нормы гражданского права: о праве собственности, договорах, относящихся к вещам, – так и специфические нормы права интеллектуальной собственности, регулирующие специфические состояния объектов интеллектуальной собственности, когда они воплощаются на нематериальном носителе, но при этом все равно не поглощаются им, как это происходит, к примеру, при реализации иных прав.
Таким образом, можно констатировать то, что важнейший критерий интеллектуальной собственности – нематериальность – не получил должной оценки, определения и фиксации в нормах ГК РФ, породив тем самым, множество других проблем, связанных не только с материальным носителем объекта интеллектуальной собственности, но и с объективной формой его существования, которые зачастую неоправданно отождествляются, а также с правовым статусом идеи.
Список литературы Парадоксы правового регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации
- Добрынин О. В, Косунова Д. Д., Ларин А. Ю., Леонтьев К. Б. и др. Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации; под ред. И. А. Близнеца, А. Ю. Ларина//Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. -М.: Книжный мир, 2008.
- Мерзликина Р. А. Концепция развития права интеллектуальной собственности в системе гражданского права России//Государство и право. -2007. -№ 3.
- Моргунова Е. А. Авторское право: учеб пособие; отв. ред. В. П. Мозолин. -М.: Норма, 2008. -С. 16.
- Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия; под ред. М. Ю. Тихомирова. 5-е изд., изм. и доп. -М., 2007. -С. 542.
- Философский энциклопедический словарь. -М.: Советская энциклопедия, 1983.
- Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие/под общ. ред. Н. М. Коршунова. -М.: Норма, 2008.