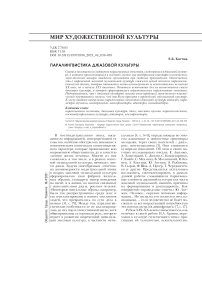Паралингвистика джазовой культуры
Автор: Костюк Екатерина Борисовна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Мир художественной культуры
Статья в выпуске: 4 (61), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию параязыковых элементов, сложившихся в джазовой культуре, и активно применяющихся в массовой музыке как своеобразный стандарт в исполнении, звуко-телесной манеры поведения музыкантов при создании произведения. Отмечается, что в современной массовой музыкальной культуре сложился целый комплекс паралингвистических единиц, которые становятся часто используемыми ее исполнителями не только XX века, но и начала XXI столетия. Основным источником для их возникновения стала джазовая культура, в которой сформировались первоначальные параязыковые элементы. Подчеркивается, что с джазовой культурой связана иная традиция звуко-телесно-пластического чувствования музыки, чем это было принято в европейской музыкальной культуре. К числу наиболее актуальных параязыковых элементов в джазовой культуре относят: параметры звучания, альтернанты, квалификаторы, адапторы, самоадапторы.
Параязыковые элементы, джазовая культура, джаз, массовая музыка, паралингвистика, постиндустриальная культура, адаптеры, квалификаторы
Короткий адрес: https://sciup.org/140290310
IDR: 140290310 | УДК: 7.78.05 | DOI: 10.53115/19975996_2021_04_036-039
Текст научной статьи Паралингвистика джазовой культуры
Общество. Среда. Развитие № 4’2021
В постиндустриальную эпоху, насыщенную информацией, интерпретацией ее смыслов, особенно обострилось внимание к семиотическим комплексам коммуникативного характера, которые пронизывают всю современную общественную, да и зачастую личную жизнь человека. Многие из них сложились, в том числе, и в рамках массовой музыкальной культуры, начиная с эпохи джаза. Будучи своеобразным «ответом» на закономерности индустриальной эпохи в недрах массовой музыкальной культуры сформировалась своя фабрика визуальных образов, стандарты манер поведения на сцене, и в жизни, во многом связанные с исполнителями джаза, рок-поп- музыки. «Некоторые визуальные образы, например, были так распространенны среди масс и так имплантированы в память миллионов людей, что превратились по сути дела в иконы» [11, с. 79]. Между тем, паралингвистические особенности ее не анализировались до сих пор в отечественной науке, хотя общепризнанна та огромная роль, которую играет в развитии современной цивилизации массовая культура, в частности музы- кальная [4, c. 8–9], определяющая во многом жизненные и ценностные ориентиры молодежи, через своих носителей – джаз-, рок-, поп-музыкантов [3]. Они становятся кумирами поколений. Об этом в своих научных исследованиях писали: Е. Авилова, А. Запесоцкий, С. Дюкин, С. Комиссаренко, Г. Кнабе, С. Махлина, В. Молзинский, В. Ко-нен, А. Костина, Ю. Лотман, Э. Рыбакова, В. Сыров, Ф. Шак, А. Цукер, Т. Чередниченко и другие. Представляется актуальным исследовать, систематизировать в рамках данной работы сложившиеся параязыко-вые элементы джазовой культуры как части массовой музыкальной, выявить причины их формирования и раскодировать. Как совершенно справедливо отмечал Ю. Лотман, «Человек... окружен потоками информации... Но сигналы эти останутся неуслышанными, ... если человечество не будет поспевать за все возрастающей потребностью эти потоки сигналов дешифровать» [7, с. 17].
Рубеж XIX–XX веков ознаменовался, как отмечает в своей работе Н.А. Хренов, переходом к культуре «чувственного типа с присущими ей телесностью, осязательностью, материальностью, и что важно, визуально-стью» [12, с. 21]. Все эти характеристики отобразились в развитии фотоискусства, нового вида – киноискусства, но также и в музыке, особенно, начиная с джаза. Востребованность его обществом в индустриальную эпоху порой доходила до «псевдорелигиозного» поклонения в лице исполнителей эпохи свинга [5, с. 208]. Чувственность музыкального языка джаза подчеркивалась и иной культурой телесно-пластического поведения, манер исполнителей на сцене, чем это было принято в европейской музыкальной традиции. Телесность и зрелищность джаза стали одним из знаковых его отличий от всего того, что существовало в музыке христианской Европы практически 2000 лет. «Взрыв зрелищности, имеющий языческие корни, выражает суть культуры чувственного типа» [12, с. 22]. Метафизика джазовой культуры сформировалась под определяющим влиянием африканской культуры, обогатившей язык музыки XX века разных направлений. Изменения коснулись не только специфики музыкального языка джаза, но также и того, что относится к одному из разделов невербальной семиотики, а именно паралингвистике, «предметом изучения которой является параязык – дополнительные к речевому звуковые коды, включенные в процесс речевой коммуникации и могущие передавать в этом процессе смысловую информацию» [6, с. 27]. Понятийный, терминологический аппарат этой науки разрабатывали отечественные и зарубежные ученые: Г. Крейдлин, Г. Колшанский, С. Мах-лина, Ю. Лотман, Т. Николаева, Р. Потапова, Г. Смит, Т. Себеок, Дж. Трейджер, А. Уилл, и другие. С.Т. Махлина отмечает, что: «в более... широком смысле... паралингвистика охватывает вообще всякие явления, сопровождающие языковую деятельность, – звуковые, графические, кинетические и т.д.» [8, с. 67]. Самым важным становится то, что паралингвистические знаки в контексте, например, музыкального общения интерпретируются сторонами, особенно в массовой музыкальной культуре XX – начала XXI века. Б.Д. Парыгин отмечал, анализируя вопросы современных форм общения: «что школа А.А. Бодалева акцентировала, что в процессе понимания человека человеком важное значение приобретает... речь» [9, с. 387], однако, по нашему мнению, в современной массовой музыке, место смысла речи зачастую подменяют: ритм звуков телесного характера и ритм слов, звуков даже не имеющий смыслового содержания. Вернее, обладающих смыслом иного, не понятийного, а эмоционально-чувственного рода. Понимание их, исследование истоков, причин их воз- никновения, специфики представляется весьма значимой проблемой в изучении не только особенностей семиосферы массовой музыкальной культуры современности, но также и заимствований, интерпретации их в других направлениях музыки, а также в более широком плане в культурных парадоксах постиндустриальной эпохи. А.М. Цукер отмечал, сколь велико влияние массовых бытовых жанров музыки на академическое музыкальное искусство. Они придают ему зачастую «новое жизненное содержание... новую лексику» [15, c. 1], которая, добавим, касается не только специфики музыкального языка как такового, но и параязыковых элементов, активно использующихся в условиях постиндустриальных реалий существования музыки академического направления.
Исследование выявило, что не все пара-языковые единицы нашли свое отображение в богатой сложившейся системе коммуникаций в рамках массовой музыкальной культуры, однако целый ряд из них заслуживает отдельного рассмотрения.
Анализируя особенности параязыка джаза, представляется значимым обратить внимание на тех исполнителей, которые являются сами по себе знаковыми фигурами для истории джаза и способствовали возникновению новаторских открытий этого музыкального направления. Например, Луис Армстронг, считающийся гением джаза [5, с. 118], который заложил новые формы импровизации не только в инструментальном джазе, но также в стиле вокального исполнения с характерными параметрами звучания. Фонация – глиссандирование на хриплом голосе, отдельные неречевые звуки, альтернанты – «о-е», «у», «мм», «дап-дап-дап», вокализация которых зачастую сопровождалась активным подрагиванием плечами, ногой, рукой в ритм музыкантом, кроме того, считается, что именно Армстронг первым начал использовать технику «скэт-вокала», «то есть воспроизводить не слова, а звуки, напоминающие звучание инструментов» [5, с. 127]. В дальнейшем эти фонации станут обычным приемом в вокале не только джазовых музыкантов, например, Э. Фицжеральд, но и поп-исполнителей – У. Хьюстон, М. Джексона, Л. Долиной и многих других, порождая своеобразный стандарт в исполнении шлягеров XX века [1, c. 14]. Хотя для вокала чернокожих американцев более характерно, что «звук в норме более сильный и полный» [цит. по 6, с. 31], а не хриплый. Однако в условиях массового «производства» музыки для развлечения, вышеназванные фонации – типовой прием, а «индустрия культуры формирует
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2021
рыночно детерминированные алгоритмы... в соответствии с логикой и идеологией товарного производства» [14, c. 20], выполняющие «роль культурно-художественных рычагов» [13, c. 1] в условиях массового производства, в которых и песня – товар с узнаваемыми параметрами.
Г. Крейдлин отмечает, что «Важную роль в просодической реализации смысла играют также жесты и мимика, сопровождающие эмоциональные интонации, прежде всего при выражении субъективно-модальных (оценочных, экспрессивных и др.) значений» [6, с. 28]. Свободная пластическая манера поведения на сцене также стала характерным кинемартом именно с джаза. Так афроамериканские исполнители, следуя природному «инстинкту» в музыке соединяли вокал с телесным контрапунктом его. Достаточно посмотреть, некоторые записи Л. Армстронга, чтобы отметить насколько отличается его манера поведения на сцене во время пения, от принятой, и чрезвычайно сдержанной в пластике, у европейских исполнителей в 1920-е годы. Впоследствии, особенно после фактически «пластической революции» Э. Пресли, стали двигаться на сцене практически все джаз-поп-рок-исполнители: свободно, активно жестикулируя, пританцовывая, с экспрессивным движением по сцене, всем телом, жестами показывая и соединяя акцентуацию слов, фраз, звуков, и радость от исполнения песни. Также до сих пор многие поп-исполнители пытаются повторить «голос Элвиса, не принимая в расчет, что невозможно передать уникальное томление его голоса с отчетливым индивидуальным звуком, который заставлял людей вопить от восторга и слушать, слушать» [10, с. 18].
К квалификаторам в джазовой музыкальной культуре можно отнести пение «хриплым» голосом или «с хрипотцой», а также используемые фальцетные звуки при шаут, характерные для афроамериканских исполнителей. «Появление квалификаторов в коммуникативном акте обусловлено множеством биологических и иных причин, которые пока не поддаются полному и непротиворечивому исчислению» [6, с. 10]. Представляется, что в джазе появление этих приемов в коммуникативном музыкальном акте было вызвано изначально развлекательной функцией джаза, в котором все должно было удивлять и веселить. С другой стороны, характерными приемами вокального исполнения, свойственными именно африканским народам. Размышляя о специфике вокальной музыки народов Африки [2, с. 29–57], А.А. Казанков отмечает, что вокальное в ней связано теснейшим образом с танцем [2, с. 31], то есть телесным в музыке племен, при этом имея самое разнообразное значение и назначение от обряда инициации до культа и лечебных мероприятий, особенно в практике шаманов. Таким образом, глубинно в африканской музыке квалификаторы имеют характер и коммуникативный, и воздействующий вплоть до введения в состояние транса слушающих. Завораживающее звучание джаза во всех его аспектах, в том числе и паралингвистических, опирается на параязык предков своих создателей.
Адапторы – «комплексы из звуков, возникающих от действий с материальными объектами или над ними, и самих объектов – источников этих звуков (включая человеческое тело и звуки, возникающие от манипуляций с ним или над ним), которые принимают участие в акте актуальной коммуникации и во вполне определенных ситуациях семиотизируются» [6, с. 36]. Их подразделяют на адапторы тела и адапторы-объекты. В джазовой культуре применяют по большей части адапторы тела. Поскольку формирование языка джаза происходило, прежде всего, под влиянием, как уже было ранее отмечено, африканской культуры в лице ее носителей – рабов, то тело, использовалось как один из «звучащих» инструментов: звук от прихлопывания, притоптывания себя, рядом танцующих, пульсация ногами, – все это характерно для культовых обрядов африканцев. В джазовой культуре к адапторам тела мы можем отнести: звуки, образующиеся от хлопков во время исполнения джазовой импровизации, которые могут производить как музыканты, так и слушатели, в знак поддержки или одобрения; топанье ногой, или «подрагивание» ногой в ритм импровизации исполнителем как форма соучастия; вытягивание одной руки вперед к зрителям как жест призыва ко вниманию, а также раскачивание инструментов (кларнета, трубы, тромбона и т.д.) в такт. Оно может иметь как волитивный, то есть намеренный, для создания эффекта зрелищности характер (таким приемом часто пользовались биг-бэнды эпохи свинга, например, оркестр Гленна Миллера), а также неволитивный, то есть вынуждаемый, чаще всего в джазе и рок-поп-музыке экспрессией исполнительского акта. Она буквально вырывает музыканта из статичности под натиском эмоций и ритма, например, это хорошо видно в танцах Э. Пресли, М. Джексона и др., большая часть этих движений, звуков хлопков, топаний первоначально имела импульсивный, непроизвольный характер, а затем уже перешла в разряд волитивных адапторов, которые активно копировались другими исполнителями.
Широко используются в современной джазовой культуре, а следовательно в це- лом музыкально-массовой, самоадапто-ры: внезапные частые подпрыгивания на месте в сочетании с улыбкой, звуковым конрапунктом («о», «е» и др.), хлопаньем в ладоши обозначают «сильную радость, ликование» [6, с. 39]. В современной поп-джаз-культуре исполнители часто для передачи своего эмоционального состояния используют подобные знаки, которые применяются впоследствии и намеренно, для «заражения» аудитории ликованием.
К числу часто используемых первоначально в джазе, потом в рок- и поп-музыке адапторов-объектов можно отнести звуки барабанной дроби в такт с аплодисментами, которые фактически «организуют радость» от услышанного публики, преобразуя хаотичный шум аплодисментов, в ритмизованную волну, которая имеет коммуникативный характер взаимодействия, обозначая благодарность музыкантам за прекрасное исполнение произведения.
Система параязыковых элементов джазовой культуры, закрепленная массовой музыкальной культурой индустриальной эпохи, активно используется и во второй половине XX века. В постиндустриальной культуре любой знак – информация, которая может быть интерпретирована, и если эпоха модерна характеризовалась появлением новых знаков в культуре, в том числе, и в музыкальной, то рубеж XX–XXI веков отмечен постоянным цитированием, трактовкой возникших, например, первоначаль- но в джазе, роке параязыковых элементов. Показательны в этом смысле ТВ-шоу типа «Точь в точь», «Один в один» каналов «Россия 1», «Первый», где система знаков, к примеру, паралингивистических, сложившихся в джаз- поп-музыке (хриплый голос, артикуляция-жестикуляция руками, ногами и т.д.) используются именно в контексте мимесиса, а также игры «в образ исполнителя», что, кстати, не возникло в академической элитарной культуре, в которой нет разнообразия такого количества ни кинетических, ни параязыковых комплексов, участвующих в создании музыкально-художественного образа в произведении.
Таким образом, в современной массовой музыкальной культуре сложился комплекс паралингвистических единиц, которые становятся часто используемыми исполнителями не только прошлого, XX века, но и начала XXI столетия. Основным источником для их возникновения стала джазовая культура, в которой формировались первоначальные параязыковые элементы. К числу наиболее часто применяемых из них в современной массовой музыкальной культуре относятся: параметры звучания, альтернанты, квалификаторы, адапторы, самоадапторы.
Список литературы Паралингвистика джазовой культуры
- Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. – М.–СПб.: Университетская книга, 1998. – 445 с. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://bookscafe.net/read/adorno_teodor-izbrannoe_sociologiya_muzyki-185872.html#p1 (01.11.2021)
- Казанков А.А. Традиционная музыка Африки (кроме арабской и сомалийской). – М.: Институт Африки РАН, 2010. – 108 с. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/kazankov_-_tradicionnaya_muzyka_afriki.pdf (05.11.2021)
- Козлов А. Рок: истоки и развитие. – М.: Синкопа,2001. – 191 с.
- Конен В.Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. – М.: Музыка,1994. – 160 с.
- Коллиер Дж. Становление джаза. – М.: Радуга,1984. – 390 с.
- Крейдлин Г. Невербальная семиотика. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 592 с.
- Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство-СПб, 1998. – 704с., ил.
- Махлина С.Т. Семиотика культуры и искусства: Словарь-справочник в двух книгах. 2-е изд., расш. И испр. Кн. 2. – СПб.: Композитор, 2003. – 340 с.
- Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб.: СПбГУП, 2003. – 616 с.
- Роланд П. Рок и поп. – М.: ФАИР-Пресс, 2003. – 317 с.
- Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Фирма «Издатетьство ACT», 2004. – 261 с. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://bookscafe.net/read/toffler_elvin-tretya_volna-63839.html#p1 (05.11.21)
- Хренов Н.А. Новая визуальность как проблема культуры. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 416 с.
- Чередниченко Т.В. Кризис общества – кризис искусства. Музыкальный «авангард» и поп-музыка в системе буржуазной идеологии. – М.: Музыка, 1987. – 196 с. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/1085937-tatyana-cherednichenko-krizis-obchestva-krizisiskusstva-muzykalnyj-avangard-i-pop-muzyka-v-sisteme-burzhuaznoj-ideologii.html (23.11.21)
- Шак Ф.М. Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах второй половины ХХ – начала ХХI в. / Автореф. дисс. ... д. искусствовед. – Ростов-на-Дону, 2018. – 52 c. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008706797/ (13.09.20)
- Цукер А.М. Проблемы взаимодействия академических и массовых жанров в современной советской музыке / Автореф. дисс. ... д. искусствовед. – М., 1991. – 50 c. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cheloveknauka.com/problemy-vzaimodeystviya-akademicheskih-i-massovyh-zhanrov-v-sovremennoysovetskoy-muzyke (05.11.2021)