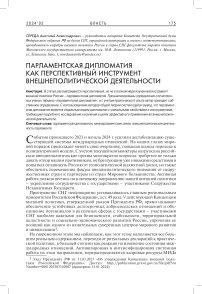Парламентская дипломатия как перспективный инструмент внешнеполитической деятельности
Автор: Середа Анатолий Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается перспективный, но не в полной мере изученный инструмент внешней политики России - парламентская дипломатия. Проанализированы определения отечественных ученых термина «парламентская дипломатия», и с учетом практического опыта автор приводит собственное определение. С использованием методов общей теории систем сделан вывод, что парламентская дипломатия является отдельным видом дипломатии с уникальными свойствами и инструментами, требующим подробного исследования и изучения в целях эффективного применения во внешнеполитической деятельности.
Парламентская дипломатия, межпарламентские связи, внешнеполитическая деятельность парламента
Короткий адрес: https://sciup.org/170204475
IDR: 170204475 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-3-175-181
Текст научной статьи Парламентская дипломатия как перспективный инструмент внешнеполитической деятельности
События прошедшего 2023 и начала 2024 г. усилили дестабилизацию суще ствующей системы международных отношений. На наших глазах мировой порядок продолжает менять свои очертания, повышая шансы перехода к полицентричной модели. С учетом текущей конъюнктуры нагрузка на российские внешнеполитические органы многократно возросла: требуется не только давать отпор нашим противникам, не брезгующим уже никакими средствами в попытках отодвинуть Россию от геополитической шахматной доски, но также обеспечить перемещение фокуса внешнеполитического внимания от недружественных стран к партнерам из стран Мирового большинства. Активная работа должна вестись по ключевому направлению нашей внешней политики – укреплению сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств.
Пространство СНГ неоднократно устанавливалось главным региональным приоритетом Российской Федерации, а ст. 49 разд. V действующей Концепции внешней политики, утвержденной указом Президента РФ, прямо называет обеспечение устойчивых долгосрочных добрососедских отношений и объединение потенциалов в различных сферах с государствами – участниками СНГ наиболее важными для безопасности, стабильности, территориальной целостности и социально-экономического развития России, упрочения ее позиций как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и цивилизации1.
На современном этапе мы наблюдаем, как этот тезис наполняется все большим реальным содержанием, переходя от ритуальных деклараций к практической политике, в большей степени как реакция на изменение состояния международных отношений. Активизирована и интенсифицирована системная работа на этом направлении, перераспределяются кадровые ресурсы МИДа
России1. Важно использовать богатый профессиональный опыт и потенциал дипломатов, подвергшихся беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств и высланных из стран пребывания2. И, конечно, нужно задействовать весь дипломатический арсенал.
Одним из перспективных, но недооцененных инструментов внешней политики, в т.ч. на пространстве СНГ, является парламентская дипломатия.
Так что же это за инструмент? О парламентской дипломатии сегодня все чаще говорят президент России3 и министр иностранных дел4. Однако в рамках отечественной академической науки настоящая тема остается недостаточно изученной.
Отдельные ее аспекты были раскрыты в работах российских ученых, рассматривавших формы, значение и роль парламентской дипломатии [Варлен 2019; Головин 2022; Кондрашова 2008; Коньков, Чуков 2020; Косачев 2017; Лихачев 2013; Пашковский 2021], однако единое определение самого термина так и не было выработано. В настоящее время в одном исследовательском поле благополучно сосуществуют обладающие различным содержанием определения парламентской дипломатии. Представляется, что наиболее полными и цитируемыми из них являются определения К.И. Косачева: «под парламентской дипломатией можно понимать совокупность международных действий парламента, групп в его составе и отдельных парламентариев в целях выполнения своих конституционных полномочий по законодательному обеспечению внешнеполитического курса страны и выполнения ее международных обязательств» [Косачев 2017: 26] и Е.В. Кондрашовой: «парламентская дипломатия – это совокупность активных действий парламента, групп в его составе или отдельных парламентариев для достижения целей внешней политики, создания позитивного имиджа парламента и страны в целом, а также для реализации гуманитарных установок» [Кондрашова 2008: 24].
Время не стоит на месте, накоплен дополнительный парламентский опыт, и в связи с этим предлагается уточнить определение. На наш взгляд, парламентская дипломатия – это совокупность не только активных (Е.В. Кондрашова) или международных (К.И. Косачев) действий, но и отказ от совершения дей- ствий или их откладывание. Например, Совет Государственной думы 13 ноября 2023 г., т.е. в период охлаждения российско-армянских отношений, принял решение отложить рассмотрение на пленарном заседании проекта федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 г.»1. А несколько ранее на пленарном заседании Государственная дума приняла решение перенести (фактически – отложить) рассмотрение законопроекта, внесенного правительством РФ, «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона “О безопасности дорожного движения” (о признании национальных водительских удостоверений граждан Республики Армения при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности)»2. Внесенные в 2012–2013 гг. в Государственную думу законопроекты о ратификации соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и двух протоколов к нему сначала с учетом состояния российско-украинских отношений были «заморожены» на уровне профильного комитета, а затем через несколько лет были сняты с рассмотрения Советом Государственной думы в связи с их отзывом правительством РФ3. Все это не активные действия или действия вообще, но это совершенно точно парламентская дипломатия.
Кроме того, К.И. Косачев определяет парламентскую дипломатию как совокупность действий, направленных на законодательное обеспечение внешнеполитического курса страны. Но если ограничиться только законодательным обеспечением, то не будет учитываться целый ряд форм парламентской дипломатии, в т.ч. в рамках двустороннего и многостороннего межпарламентского сотрудничества. Таким образом, под парламентской дипломатией предлагается понимать деятельность парламента, его структурных единиц и отдельных парламентариев, направленная на достижение целей внешней политики государства.
Участие парламента во внешнеполитической деятельности закреплено Конституцией Российской Федерации, регулируется федеральными законами и подзаконными актами, отражено в актуальной Концепции внешней политики Российской Федерации. Статья 67 Концепции говорит о том, что палаты парламента проводят работу по законодательному обеспечению реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также способствуют выполнению задач парламентской дипломатии4. Представляется, что последняя часть этой статьи заслуживает уточнения: все же способствовать – это помогать. Поскольку субъектом парламентской дипломатии является парламент, то, исходя из текста, получается, что парламент должен сам себе помогать выполнять задачи. Следовательно, корректнее говорить о том, что парламент выполняет задачи парламентской дипломатии. Возможно, это слово «способствует» употреблено в Концепции как некоторая подстраховка.
Действительно, иногда прослеживается недооценка возможностей парламентской дипломатии со стороны основных акторов внешней политики. Это может быть связано в т.ч. с недостаточной информированностью о парламентских дипломатических инструментах. По мнению некоторых исследователей, имеют место недоверие и сомнения в квалификации парламентариев для решения дипломатических задач.
Ранее действительно чаще случались казусы, связанные с неуместными или несвоевременными высказываниями отдельных депутатов, а в стенах Государственной думы не раз заявляли о недопустимости так называемого парламентского туризма1. Но за 30 лет новейшей истории российского парламентаризма Федеральное собрание накопило немалый опыт. Многого уже удалось достичь, а кадровый ресурс позволяет успешно реализовывать стоящие перед депутатами и сенаторами внешнеполитические задачи. Достаточно взглянуть на послужной список членов международного комитета Совета Федерации. Квалификация и роль во внешней политике председателей комитетов Государственной думы по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.Э. Слуцкого и Л.И. Калашникова подтверждена президентом РФ, который присвоил им ранги чрезвычайных и полномочных послов. Знания, опыт, возможности и инструментарий у нынешних российских парламентариев, безусловно, есть.
Среди российских ученых существует несколько подходов к классификации и определению места парламентской дипломатии в системе внешнеполитической деятельности. Один из них (представленный в работах К.И. Косачева, В.Н. Лихачева, П.И. Пашковского) рассматривает парламентскую дипломатию как самостоятельное (и достаточно полноценное) направление внешней политики [Косачев 2017: 26], которое формируется на пересечении (некоторые говорят – на стыке) народной и профессиональной дипломатии [Пашковский 2021: 54]. Другой подход изложен в учебнике В.И. Винокурова «Современная дипломатическая система: теория и практика», предназначенном для использования в образовательном процессе в магистратуре Дипломатической академии МИД РФ. По мнению автора учебника, с точки зрения принадлежности к виду дипломатии парламентская дипломатия занимает уникальное положение: выполняет критерии как вида (цели – решение задач государственного масштаба, наличие субъектов и объектов дипломатии), но не относится к совокупности отношений, которые принято называть международными [Винокуров 2022: 42]. Там же обстоятельно раскрыта роль научной дипломатии как отдельного ее вида. А одним из отличительных свойств выступает дуализм, заключающийся в одновременном сочетании признаков публичной и общественной дипломатии, и в этом смысле научная дипломатия аналогична парламентской [Винокуров 2022: 179]. У П.И. Пашковского и ряда других исследователей такое свойство охарактеризовано как амбивалентность [Пашковский 2021: 52].
С нашей точки зрения, парламентская дипломатия – это также отдельный вид дипломатии, находящийся не на стыке или пересечении, а одновременно сочетающий в себе элементы традиционной (классической, профессиональной) и общественной дипломатии. С одной стороны, парламент – это орган государственной власти с нормативно закрепленными полномочиями в сфере внешней политики. С другой – общество через выбранных представителей-депутатов участвует в реализации власти и проведении внешней политики. Причем оба эти элемента неразрывно связаны и составляют отдельную целостную систему «Парламентская дипломатия», входящую в надсистему (систему более высокого порядка) «Дипломатия».
Парламентской дипломатии как системе (совокупность взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его элементам по отдельности) присущи общие для всех систем закономерности [Качала 2021: 112].
-
1. Изменение в любом элементе системы вызывает изменение в других элементах и в системе в целом. Действительно, если представить, что любой из элементов – государственные полномочия или представительная функция – видоизменяются (например, сокращаются полномочия), такое изменение неотвратимо повлечет изменения в другом элементе (сократятся властные полномочия общества, реализуемые через выборных представителей) и системы в целом (будут утрачены некоторые инструменты).
-
2. При объединении элементов в систему наблюдается эмерджентность – возникновение в системе новых интегративных качеств, не свойственных ее компонентам. С учетом свойств и особенностей парламентской дипломатии депутаты и сенаторы зачастую имеют гораздо большую свободу действия. При том, что парламентарии представляют государственную власть и придерживаются общей внешнеполитической линии, они не связаны жестким протоколом и директивами, как кадровые дипломаты, и имеют возможность, например, взаимодействовать с представителями всего политического спектра иностранных государств – и с представителями правящих партий, и с оппозицией, имеют в распоряжении различные формы парламентской дипломатии. Это и различные форматы двустороннего и многостороннего межпарламентского сотрудничества, и заявления палат или отдельных парламентариев, и законодательное регулирование, в первую очередь через ратификацию или отклонение ратификации международных договоров, и консультации при назначении и отзыве послов.
-
3. Свойства системы не являются простой суммой свойств ее элементов. Свойства элементов парламентской дипломатии подвержены влиянию друг друга. Например, депутат оппозиционной партии, представляя парламент в составе делегации, вынужден ограничивать оппозиционную риторику и, следовательно, не в полной мере представлять интересы избравшей его части общества. И наоборот, тот же депутат, организующий международную конференцию или участвующий в ней, за счет своего государственного статуса (депутат Государственной думы – лицо, занимающее государственную должность) делает «голос» своих избирателей «слышнее». Этот пример справедлив и для следующей закономерности.
-
4. Объединенные в систему элементы либо утрачивают способность проявлять часть своих свойств, либо получают возможность проявить свои потенциальные свойства.
-
5. При объединении элементов в систему наблюдается синергетический эффект. Приведем пример. По сложившейся практике официальные делегации Государственной думы (как высшего законодательного органа Российской Федерации) формируются с учетом представленности членов всех фракций. Таким образом, делегации представляют максимально широкую часть общества, тем самым повышая легитимность своей деятельности.
Подробное исследование и изучение парламентской дипломатии как отдельного вида с помощью общих и специальных методов повысит эффективность ее применения парламентариями, а также использования присущих ей возможностей в общей системе внешнеполитической деятельности.
С учетом исторических, экономических, культурных, гуманитарных факторов российская парламентская дипломатия на пространстве СНГ сталкивается с наименьшими барьерами и препятствиями по сравнению с другими регионами и поэтому имеет широкие возможности и потенциал. Роль и значение российских парламентариев на пространстве Содружества высоки – с ними встречаются президенты1, председатели правительств, министры иностранных дел. Это справедливо для двусторонних и многосторонних межпарламентских связей, в отличие от стран Запада, где в настоящее время наиболее эффективными видятся двусторонние отношения [Кротов, Середа 2023: 20]. Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России уже доказали свою востребованность и эффективность. Эти межпарламентские организации выступают диалоговыми площадками, в т.ч. для выработки или согласования единых позиций, и механизмом гармонизации и унификации законодательства наших стран, что, в свою очередь, способствует формированию единого правового пространства. Такая же межпарламентская организация просто необходима в Евразийском экономическом союзе, и доводы к этому звучат все чаще. Весной 2023 г. на парламентских слушаниях в Государственной думе о приоритетах российского председательства в ЕАЭС представители большинства думских фракций говорили об этом с трибуны2.
Роль парламентов растет, и при имеющемся потенциале парламентская дипломатия может и должна играть более существенную роль в достижении целей внешней политики России в меняющемся мире.
Список литературы Парламентская дипломатия как перспективный инструмент внешнеполитической деятельности
- Варлен М.В. 2019. О возрастающей роли парламентской дипломатии в многополярном мире. - Lex russica (Русский закон). № 7. С. 54-65.
- Винокуров В.И. 2022. Современная дипломатическая система: теория и практика. М.: Русская панорама; СПСЛ. 304 с.
- Головин А.Г. 2022. От делегирования власти народом к парламентской дипломатии: система коммуникаций в пространстве представительной демократии. - Представительная власть-21 век. № 5-6. С. 13-21.
- Качала В.В. 2021. Общая теория систем и системный анализ: учебник для вузов. М.: Горячая линия - Телеком. 432 с.
- Кондрашова Е.В. 2008. Эволюция парламентаризма в контексте внешнеполитической деятельности России: дис. … к.полит.н. М. 169 с.
- Коньков А.Е., Чуков Р.С. 2020. Парламентская дипломатия: развитие общественно-государственного взаимодействия на мегаполитическом уровне. - Полис. Политические исследования. № 1. С. 62-73.
- Косачев К.И. 2017. Парламентская дипломатия в многополярном мире. - Диалог: политика, право, экономика. № 1(4). С. 26-31.
- Кротов М.И., Середа А.А. 2023. Евразийский вектор - приоритет парламентской дипломатии России. - Евразийская интеграция: экономика, право, политика. Т. 17. № 1(43). С. 16-28.
- Лихачев В.Н. 2013. Дипломатия России: парламентское измерение. - Дипломатический ежегодник. 2012. М.: Изд-во Дипломатической академии МИД России. С. 87-96.
- Пашковский П.И. 2021. Внешнеполитическая деятельность Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: дис. … д.полит.н. Симферополь. 555 с.