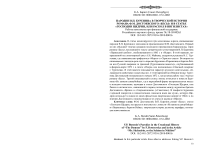Пародии В. П. Буренина в творческой истории романа Ф. М. Достоевского "Бесы" и в статье "Господин Щедрин, или раскол в нигилистах"
Автор: Баршт Константин Абрекович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются три аллюзивные адреса, связывающие пародии В.П. Буренина с эпизодами в произведениях Ф.М. Достоевского. Первый из них объясняет генезис названия последнего произведения Кармазинова, героя романа «Бесы», восходящий к тексту сатирического стихотворения В.П. Буренина «Парижский альбом», опубликованного в 1863 г. в «Искре». В этой пародии, направленной на стихотворный цикл А.Н. Майкова, содержится реплика И.С. Тургенева, где знаменательно рифмуются «Мерси» и «Христос спаси». Во втором из описываемых эпизодов речь идет о пародии Буренина «Пирожница с берегов Рейна или Русский дворянин за границей (Тургеневская повесть)», опубликованной в феврале-марте 1872 г. в газете «Искра» под псевдонимом «Опасный соперник г. Тургенева». В этой повести описывается характер «русского жентильома», обладающего свойствами «лакея мысли». С этой пародией на «Вешние воды» Тургенева Достоевский познакомился в начале 1872 г., когда начал работу над 3 частью романа «Бесы». Третий описываемый в статье эпизод относится к повести Буренина «Из записок самоубийцы», где в пародийной форме воспроизводится мысль о молодом поколении, звучащая в статье Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», написанной в период полемики между журналом братьев Достоевских «Время» и «Современником» («Свистком»). В памфлете Буренина с иронией говорится о словосочетании «засидели идею как мухи», которую Щедрин использует в одном из своих фельетонов (мартовском номере от 1864 г.), по мнению Достоевского, позаимствовав ее из статьи в журнале «Время».
Ф.м. достоевский, "пирожница с берегов рейна", в.п. буренин, роман "бесы", статья "господин щедрин, или раскол в нигилистах", повести "из записок самоубийцы", творческая история, аллюзия, парафраз, интонация повествователя
Короткий адрес: https://sciup.org/14914716
IDR: 14914716 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00016
Текст научной статьи Пародии В. П. Буренина в творческой истории романа Ф. М. Достоевского "Бесы" и в статье "Господин Щедрин, или раскол в нигилистах"
Достоевский рассматривал свой роман «Бесы» как гражданский акт сопротивления социалистической революции, надвигавшейся, как это ему было очевидно, на Россию. Особенно опасными ему представлялись не только молодые соотечественники, отравленные коммунистической идеологией - «нигилисты», но и известные писатели, «властители умов», заигрывающие с радикальными элементами и «интернационалкой». Первым в этом ряду был И.С. Тургенев, и совсем не случайно, создавая на него пародию в романе «Бесы», Достоевский дает ему имя «Кармазинов», от французского слова «cramoisi» (багровый) [Никольский 1921, 64]. В «Бесах» обнаруживается множество аллюзий на произведения Тургенева -«Дым», «Призраки», «Довольно», «По поводу „Отцов и детей“», «Казнь Тропмана», отмеченные в литературе о писателе [Достоевский 1972-1990, XXX (2), 352-354]. Но можно добавить к этому ряду еще одну
На описанном в романе «Бесы» литературном вечере («празднике») основным событием должно было стать чтение «великим писателем» Кармазиновым его произведения, предполагаемого шедевра под названием «Merci»: «он прочтет у нас свою последнюю вещь, еще никому не известную. Он бросает перо и более писать не будет; эта последняя статья есть его прощание с публикой» [Достоевский 1972-1990, X, 236]. Это произведение «великого писателя» упоминается в романе Достоевского и далее

[Достоевский 1972-1990, X, 250, 356-357]. Можно высказать предположение, что название кармазиновского шедевра сформировалось не без влияния сатирического стихотворения В.П. Буренина из цикла «Парижский альбом», опубликованного в 1863 г. в «Искре» под псевдонимом «Владимир Монументов» [Искра 1863], в роли пародии на цикл стихотворений А.Н. Майкова «Неаполитанский альбом» [Майков 1862, 337-352]. Стихотворение высмеивает тематику произведений И.С. Тургенева как представителя литературного «бомонда», в текстах которого весьма характерным образом рифмуются «Мерси» и «Христос спаси»:
В русской церкви за обедней
Весь beau monde наш собрался;
Там Тургенева я встретил;
Поболтали с полчаса.
«Каково, Иван Сергеич, Поживаете?» - «Merci. Все пишу о нигилистах -Русь от них Христос спаси!» [Буренин 1987, 314]
Не вызывает сомнений, что Достоевский, в роли соредактора журналов «Время» и «Эпоха» внимательно изучавший современную периодику, был знаком с этим опусом Буренина, и вероятно именно в нем коренится название плода «изящнейшего беллетристического вдохновения» Кармазинова, упомянутого в романе «Бесы».
Возможно, что на формирование характерного типа «русского женти-льома», готового к любой форме низкопоклонства перед Западной Европой, олицетворенного Кармазиновым в «Бесах», оказала влияние пародия В.П. Буренина «Пирожница берегов Рейна или Русский дворянин за границей (Тургеневская повесть)», опубликованная в феврале-марте 1872 г. в газете «Искра» под провокационным псевдонимом «Опасный соперник г. Тургенева» [Искра 1872]. В этом юмористическом опусе легко узнаются сюжет и стиль «Вешних вод», а в эпилоге содержатся прозрачные намеки на отношения Тургенева и Полины Виардо [Анненков 1999, 519-520]. В.П. Буренин, как провозвестник «цинического реализма» не находивший в литературе места для каких-либо лирических интонаций, считал «Вешние воды» образцом «пошлой глупости», в которых изображаются «шепот и робкое дыханье, взоры, ланиты и талии, берег реки и куст развесистый...» [Игнатова 2008, 14-18].
В течение 1871 г, переходя из номер в номер, роман «Бесы» печатался в журнале «Русский вестник» [Русский вестник 1871], однако после отказа редакции публиковать главу «У Тихона», с конца 1871- начала 1872 г. этот процесс был приостановлен, и почти половина текста романа осталась неопубликованной, да и все произведение оказалось под большим вопросом.
Об этом тяжелом конфликте с редакцией «Русского вестника» Достоевский написал Анне Григорьевне 4 января 1872 г. [Достоевский 1972-1990, XXIX (1), 223]. В течение двух месяцев после этого писатель переделывал главу, пытаясь угодить требованиям редакторов и добиться согласия на публикацию, но добавочная проблема заключалась в том, что М.Н. Катков требовал для принятия решения всей или почти всей третьей части романа. В марте-апреле выяснился категорический отказ «Русского вестника» от главы «У Тихона», и далее работа шла над заключительными главами второй части «Степана Трофимовича описали» и «Флибустьеры. Роковое утро», которые по первоначальному плану следовали за первой главой третьей части «У Тихона», а затем шли остальные главы третьей части романа. Публикация романа возобновилось лишь через год, в ноябре 1872 г. [Русский вестник 1872]. Главы «Праздник» и «Окончание праздника», с которых начинается третья часть романа, писались в мае-июле 1872 г, в подготовительных материалах к «Бесам» сохранились тезисы речи Степана Трофимовича [Достоевский 1972-1990, IX, 314-332, 342-413], эти главы были отправлены в издательство 19 июля 1872 г.
Возможно, дорабатывая начальные главы третьей части «Бесов», где содержится описание «Праздника», Достоевский познакомился с буре-нинской пародией на «Вешние воды» Тургенева, напечатанной, как указано выше, в начале 1872 г. в «Искре». В этом произведении Буренин создал описание характера «русского жантильома», лишенного минимальной способности к аналитическому размышлению, считающего любого западноевропейца человеком выше себя и всякого русского по всем возможным параметрам и во всех отношениях, а также испытывающего непреодолимое желание унижаться и раболепствовать перед ним. Есть основания полагать, что Достоевский с горячим одобрением принял эту пародию Буренина. Он и сам не раз писал в своих статьях об оторвавшихся от родной почвы русских баричах, представителях «Белой Арапии», праздно и без всякого смысла торчащих в Европе как «пережитке прежних времен»: «баричи (quelques gentilhommes qui se sont occupes de la litterature). Белая Арапия - барская затея. А с Белой Арапией все сказано, дальше некуда - в безвоздушное пространство. Это остатки прежнего либерализма, имевшего свой исторический склад, но совершенно отжившего и присутствующего еще в огромной массе отживших людей, ходячих трупов, свободных от земли, отставших и никуда не приставших, которые представляют из себя вялое, пошлое поколение наших шатающихся даром лишних людей» [Достоевский 1972-1990, XX, 187]; «gentilhomme russe et citoyen du monde прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться» [Достоевский 1972-1990, XXI, 8-9].
В сатирической повести Буренина описывается именно такого рода персонаж. Это двадцатидвухлетний дворянин, Хрисанф Девственников, оправдывающий свое нахождение в Германии насущной необходимостью постоянно лицезреть рыцарские замки. Заметим, что в его имени звучит скрытое обращение к Достоевскому - намек на героя «Бедных людей» Де- вушкина, наивного и доброго мелкого служащего, основным свойством характера которого также была гипертрофированная мечтательность. Основное занятие Хрисанфа - лакейское услужение каждому встречному, а также эротико-мечтательные вожделения, над которыми смеются или которые используют в своих целях окружающие. Объекты его восхищения и поклонения - пожилой итальянец, которому, по его словам, маркиз Жильбер Лафайет подарил двух индюков (действие повести происходит в 1840 г, Лафайет умер в 1834 г, таким образом, речь идет об индюках-долгожителях), его дочь Кора, беспрерывно выпекающая пирожки с коровьим выменем, обладательница выдающегося бюста, от которого пылкий Хри-санф не может оторвать глаз, и ее младший брат, «златовласый младенец» Асканио, отличающийся волчьим аппетитом и большим нахальством. Повесть состоит из ряда нелепых ситуаций, которые раз за разом создает сам Хрисанф, основанных на его неуклюжих попыток подобострастно услужить им всем. А далее - еще и сапожнику, мужу Коры и множеству рожденных в этой семье детей, в то время как сама Кора не без успеха стремится побить рекорды Мессалины. «Европейцы» в повести Буренина несут чепуху, которую с благоговением выслушивает Девственников, самого его, с основаниями и без оснований, поминутно называют дураком, мотивируя это именно тем, что «все русские дураки», «русские ужасно глупы и у них все глупо, даже имена. Но зато у них пространная земля и есть мужики» [Буренин 1874, 271, 267-268 и др.]. Ему в прямом смысле плюют в лицо, отбирают денежные средства, заставляют рубить коровье вымя для пирожков, однако он продолжает находиться в благоговейном состоянии при мысли о том, что он в Европе, и посему его поминутно охватывает «неизъяснимый восторг» [Буренин 1874, 283]. Контрапунктом тональности описанных ситуаций является презрительно-брезгливая интонация повествователя повести, со всей очевидностью содрогающегося от отвращения ко всему тому, что он описывает.
Жанровая специфика повести говорит о том, что такова же была и позиция конкретного автора этого произведения. Е1есмотря на былую жесткую полемику с журналами братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», в своем отвращении к раболепствующему «жантильому» Буренин максимально сближается с почвеннической позицией Достоевского, одним из главных пунктов которой было отрицание необходимости слепого копирования всего «европейского», и, тем более - отрицание априорной униженной позиции перед ценностями западноевропейской цивилизации. В 1860-е гг. Бурениным было высказано немало критических замечаний в адрес этой историософской доктрины Достоевского, однако, возможно неожиданно для них обоих, позиции двух писателей сошлись в 1870-е гг. И Достоевский, который самым внимательным образом следил за творчеством Буренина, не мог этого не заметить и не оценить по достоинству. Вероятно, описанный Бурениным апофеоз лакейского преклонения перед всем «западноевропейским» запал ему в душу, и работая над романом «Бесы», он сделал ряд записей, которые вполне могли бы послужить комментарием к повести Буренина.
Перед романом «Бесы» Достоевский продумывал повесть «Картузов», герой которой типологически близок к Мышкину из только что написанного романа «Идиот», он так же «наивен» и «целомудрен», однако в отличие от достаточно красноречивого и яркого собеседника Мышкина, «молчалив, сух», «не умеет говорить», а если говорит, то краткими предложениями, почти афоризмами, как указывает писатель: «вдруг изрекает мысли»; этот персонаж писателя, согласно замыслу Достоевского, «выражается резко о лакействе, краснеет, молчит» [Достоевский 1972-1990, XI, 42]. Далее, создавая для «Бесов» характер честного нигилиста, имевшего на этой стадии работы над романом рабочий псевдоним «Студент», Достоевский, вероятно, вспоминал характер Буренина, подчеркивая отвращение своего персонажа ко лжи и лицемерию: «вдруг под конец обеда, по поводу манер, говорит, что наш дворянин за границей лакей (костюм, рабство, обязанность говорить о чужом интересе и не иметь своего ни лица, ни интереса)» [Достоевский 1972-1990, XI, 71]. Как бы поясняя эту выходку своего героя, Достоевский записывает: «Европейничание первым делом несет с собою лень, ничегонеделание, снимает обязанности и заботы, отнимая инициативу и предлагая копировку, тупость и лакейство мысли. Труд переплетчика легче, чем сочинителя. Оно и соблазнительно. Сами не знают, чему поклонились» [Достоевский 1972-1990, XI, 137].
Более развернутая формулировка той же мысли появляется через несколько страниц его рабочей тетради: «NB. Западничество есть лакейство, лакейство мысли. <...> “Вест(ник) Европы” сердится на Пушкина за старинную эпиграмму. Судорожная ненависть к России. Если случится факт к хвале русскому народу, то их уже коробит. <.. .> начинается старание унизить факт, измельчить его до ничтожности, напомнить о всех недостатках. Наш либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому сапоги вычистить» [Достоевский 1972-1990, XI, 169]. То, что Достоевский вспоминал здесь Буренина (более ранние его произведения), подтверждается другой записью, фиксирующей диалог между Карту-зовым и генералом: «Картузов: “Ваше превосходительство, Россия есть игра природы”. Губ<ернатор>: “Игра природы?” Картузов: “Россия есть недоразумение, огромное недоразумение. Значит, игра природы, а не ума”. Губ<ернатор>: “Да вы философ?”Картузов: “Цинической секты, в<аше> пр<е> восходит<ельство>”» [Достоевский 1972-1990, XI, 280]. Здесь звучит очевидный намек на Буренина, вспомним, что своим основным достижением в литературе Буренин считал разработку и внедрение методологии и практики «цинического реализма», нового художественного метода, идущего на смену обветшалым, по его мнению, моделям, представленным Тургеневым, Толстым и другими писателями «золотого века» русской литературы. Он писал: «я чувствую, что искусство в его современном направлении должно стремиться к циническому реализму, что это стремление есть новый шаг от реализма эстетического, господствовавшего до сих пор и уже совершившего свои круг» [Санкт-Петербургские Ведомости

1872, 1], [Игнатова 2010, 139].
Эти наброски обрели свой окончательный вид в сцене беседы повествователя с Шатовым, героем романа «Бесы», в полной мере воплощающим в своем характере и мировоззрении идеалы «почвенничества»:
«Люди из бумажки; от лакейства мысли всё это, - спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими ладонями в колени. - Ненависть тоже тут есть, - произнес он, помолчав с минуту, - они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся... <...> Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить. - Какие сапоги? Что за аллегория? - Какая тут аллегория!» [Достоевский 1972-1990, X, 110-111].
В разговоре с женой Шатов выражается еще более резко, сравнивая французских революционеров с завистливыми обывателями и утверждая, что окончательно идеологически отказался от противников «живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая средина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз девяносто третьего года...» [Достоевский 1972-1990, X, 442]. Согласно мысли Шатова, а также и его автора, Достоевского, в основе будущего России лежит не идея «завистливого равенства», но братской любви и полноценного развития личности каждого, при которых о «равенстве» и речи нет, т.к. люди неравны по определению; эту идею он проповедовал затем в «Братьях Карамазовых» и своей «Пушкинской речи».
Творческий диалог двух писателей продолжался и в 1874 г, когда была написана повесть Буренина «Из записок самоубийцы». На этот раз предметом шуток со стороны критика стали некоторые детали статьи Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» [Достоевский 1972-1990, XX, 102-120], написанной в период бурной полемики между журналом братьев Достоевских «Время» и «Современником» («Свистком»), В статье Достоевского фигурирует литератор Щедродаров, за этим именем легко просматриваются имя ведущего автора и идеолога журнала в 1863-1864 гг. М.Е. Щедрина, публиковавшего из номера в номер «Современника» свой обзор «Наша общественная жизнь». В памфлете Достоевского говорилось о словосочетании «засидели идею как мухи», по мнению писателя, в одном из своих фельетонов (мартовском от 1864 г. [Современник 1864, 27-62]) М.Е. Салтыков-Щедрин позаимствовал метафору из статьи Достоевского в журнале «Время».
В этом эссе Щедрина речь шла о двух главных опасностях, стоящих на пути развития русского общества: тесно спаянных с государственной машиной «мальчиках» и противостоящих ей радикалах - негодных «мальчишках» («нигилистах»), которые, каждый по своему, уничтожают страну, своей деятельностью останавливая «развитие действительно живых сил общества <.. > на тех битых колеях, из которых оно давно рвется выбиться», приводят историческую ситуацию к «мрачным последствиям» [Салтыков-Щедрин 1968, 294]. Щедрин сокрушается, что эта «молодежь» вовсе не «общественные деятели», а «мразь», которая много хуже, чем даже «старые драбанты» [Салтыков-Щедрин 1968, 248]. Достоевский в своей статье цитирует этот выпуск «Нашей общественной жизни»: «Но без сомнения всего более способствуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением... Одним своим участием они делают неузнаваемым всякое дело, до которого прикасаются, подобно тому, как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную... Нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы» [Достоевский 1972-1990, XX, 114], [Щедрин 1863, 175-202], [Салтыков-Щедрин 1968, 321-322, 325].
Согласно его мнению, здесь содержится повторение мыслей, которые ранее звучали в его журнале: «’’Время” тогда только о плутах говорило и справедливо: ведь либерализмом и прогрессивном они все равно что торговали у нас в последнее время. Я же об вислоухих упомянул. Из этих хоть есть честные, да все перепортили» [Достоевский 1972-1990, XX, 114-115]. Достоевский имеет в виду «Объявление о подписке на журнал “Время”» на 1863 г. [«Время»... 1862, 1-12]: «Но мы ненавидим пустых, безмозглых крикунов, позорящих всё, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею дже одним тем, что они в ней участвуют; свистунов, свистящих из хлеба и только для того, чтоб свистать; выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются им убеждения. Они их тотчас же и продадут за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее. Тут одни слова, слова и слова, а нам довольно слов; пора уж и синицу в руки» [Достоевский 1972-1990, XX, 211].
Отсюда делается вывод, что «Современник», конфликтующий с «Временем» по идеологическим соображениям, на самом деле повторяет идеи, высказанные в этом же журнале. В черновике статьи «Господин Щедрин», отвечая на мартовский выпуск его «Нашей общественной жизни», Достоевский подчеркивает: «В статью ответ “Современнику”. Все это было чрезвычайно комично: сначала уничтожался Тургенев (из угожд<ения> “С<овременни>ку”) за то, что он художник, и вдруг выдумывают про г-д Зайцева и Писарева, что они засидели идею, как мухи, - за то же самое, за их антихудожественность. Все это комично» [Достоевский 1972-1990,
XX, 195]. В окончательном тексте статьи Достоевского «Щедродаров» получает упрек в том, что он позаимствовал этот оборот из журнала «Время»: «откуда, откуда у вас теперь могли завестись свои мысли? Вы взяли их из «Времени»!» [Достоевский 1972-1990, XX, 113]. Отвечая на это, тот соглашается с тем, что «сошелся мыслями» с журналом «Время», и указывает на особенно удавшийся ему оборот: «У меня тут есть: “засидели идею, как мухи”. Это прекрасное словечко, и жаль, что вы его не понимаете!» [Достоевский 1972-1990, XX, 114].
Работая над своей повестью «Из записок самоубийцы», В.П. Буренин, вероятно, вспомнил этот диалог о «реформаторах», «засидевших идею как мухи», который проходил между Достоевским и Щедриным в 1862-1864-е гг. В его сатирической повести появляется персонаж по имени Пахомов, который на заседании домашнего литературного кружка зачитывает фрагмент из выдающегося, по его мнению, сочинения известного литератора, обладателя «неистовой гениальности» Асклелиодота Амфилохови-ча, одновременно позиционируя себя в роли «вестовщика произведений этого гения, еще неведомых миру». Далее он с торжеством читает опус, «усердно оттеняя необычайный, поражающий юмор писавшего». В прочитанном им отрывке говорилось «о каких-то идеях, которые стремятся “пакостить, засидеть” какие-то “консервативные мухи” и потом внезапно Россия сравнивалась игриво с какой-то неудобоназываемой деталью человеческого тела. Это сравнение окончательно всех восхитило. В особенности восхищался Писклёнков: он засунул два пальца за борт сюртука, важно выпятил грудь, сжал брови и произнес, будто говорил в заседании суда, следующую тираду: - Я признаю несомненное, громадное значение за сатирой Асклепиодота Амфилоховича. Какая глубина! Какая сатирическая сила! Какая неистощимость и разнообразие в приемах! Я нахожу, что он идет гораздо далее Гоголя». К этой оценке тут же присоединяется «мозольный оператор», указывая, что ежемесячные выпуски «Пустопорожнего радикала», в котором печатаются тексты гениального сатирика, говорят не только о его таланте, но и большой работоспособности: «И заметьте, какая плодовитость у Асклепиодота Амфилоховича: каждый месяц, каждый месяц, так и качает в “Пустопорожнем”. Удивительный талант!» [Буренин 1874, 83-87].
Говоря о том, что пресловутый «талантливый сатирик» идет «дальше Гоголя», Буренин, вероятно, имел в виду известную полемику о Достоевском в период его литературного дебюта (1846 г): повторяет ли он Гоголя в своем романе «Бедные люди», или «идет дальше». О Достоевском как «новом Гоголе» в 1840-е гг. говорили ВТ. Белинский, Н.А. Некрасов, Д.В. Григорович и др. [Баршт 2015, 385-390]. Что же касается ежемесячного издания, которое неутомимо «качает» в общество либеральные идеи, возможно, Буренин имел в виду журнал «Гражданин» Достоевского, где в с января 1873 по апрель 1874 г. печатался его «Дневник писателя». Возможен также намек на М.Е. Салтыкова-Щедрина в его «Нашей общественной жизнью», ежемесячно появлявшейся в очередных номерах «Совре- менника». Аллюзивный план обнаруживает и сравнение России с «неудо-боназываемой деталью человеческого тела».
Возможно, это намек на сатирическую статью Достоевского «Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с превращениями и переодеваньями», в которой в пародийном духе изображается нечто вроде заседания английского клуба, где докладчик оспаривает обвинение в том, что он «развратил общество и особенно юную часть его», что он «возбуждал, и проч., и проч.»: «Обхожу на время вопрос о возбуждении общества и займусь его “юною частию” <...> Точно никто не знает эту юную часть, точно никто сам из них не был юным и не помнит, как развивается юношество, особенно на нашей почве!» [Достоевский 1972-1990, XX, 39]. Возникает двойная аллюзия: словосочетанием «юная часть» Достоевский иронизирует над «мальчиками» и «мальчишками» М.Е. Салтыкова-Щедрина; Буренин, в свою очередь, создает пародирующую Достоевского формулировку в классическом бурлескном стиле, смешивающим «высокое» и «низкое».
Список литературы Пародии В. П. Буренина в творческой истории романа Ф. М. Достоевского "Бесы" и в статье "Господин Щедрин, или раскол в нигилистах"
- Баршт К.А. Литературный дебют Ф.М. Достоевского: творческая история романа «Бедные люди»//Достоевский Ф.М. Бедные люди. М., 2015. (Литературные памятники). С. 385-390.
- Буренин В.П. Парижский альбом (посвящается А.Н. Майкову)//Поэты «Искры». Т. 2. Л., 1987. С. 395-397.
- Буренин В.П. Пирожница с берегов Рейна//Буренин В.П. Очерки и пародии. СПб., 1874. С. 259-299.
- Игнатова И.Б. Литературно-критическая деятельность В.П. Буренина: генезис, эволюция, критический метод: дис. … к. филол. н.: 10.01.01. М., 2010.