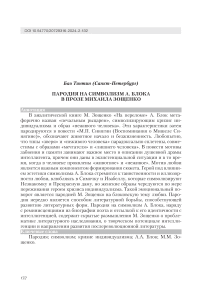Пародия на символизм А. Блока в прозе Михаила Зощенко
Автор: Бао Тинтин
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В аналитической книге М. Зощенко «На переломе» А. Блок метафорично назван «печальным рыцарем», символизирующим кризис индивидуализма и образ «неживого человека». Эти характеристики затем пародируются в повести «М.П. Синягин (Воспоминания о Мишеле Синягине)», обозначают животное начало и безжизненность. Любопытно, что типы «зверя» и «неживого человека» парадоксально сплетены, совместимы с образами «мечтателя» и «лишнего человека». В повести мотивы забвения и памяти занимают важное место в описании душевной драмы интеллигента, причем они даны в экзистенциальной ситуации и в то время, когда в человеке проявлены «животное» и «неживое». Мотив любви является важным компонентом формирования сюжета. Герой под влиянием эстетики символизма А. Блока стремится к таинственности и иллюзорности любви, влюбляясь в Симочку и Изабеллу, которые символизируют Незнакомку и Прекрасную даму, но женские образы чередуются по мере переживания героем кризиса индивидуализма. Такой эмоциональный поворот является пародией М. Зощенко на блоковскую тему любви. Пародия нередко является способом литературной борьбы, способствующей развитию литературных форм. Пародия на символизм А. Блока, наряду с реминисценциями из биографии поэта и отсылкой к его идентичности с интеллигенцией, содержит скрытые размышления М. Зощенко о проблематике литературного наследования, о творческом потенциале интеллигенции и направлении развития послереволюционной литературы.
Пародия, символизм, кризис индивидуализма, а.а. блок, м.м. зощенко
Короткий адрес: https://sciup.org/149146219
IDR: 149146219 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-132
Текст научной статьи Пародия на символизм А. Блока в прозе Михаила Зощенко
Parody; symbolism; crisis of individualism; A. Blok; M. Zoshchenko.
Имя А.А. Блока в литературном наследии М.М. Зощенко встречается не реже, чем имена Н.В. Гоголя и А.П. Чехова. Самым ранним аналитическим материалом Зощенко о Блоке считается книга «На переломе» (1919– 1920), где Блок метафорически назван «печальным рыцарем», символизирующим кризис индивидуализма и образ «неживого человека». Приводим отрывок из книги: «Вся почти литература наша современная о них, о безвольных, о неживых или придуманных. Гиппиус, Блок, Ал. Толстой, Ремизов, Ценский – все они рассказывают нам о неживых, призрачных, сонных людях» [Зощенко 2015, 31].
Во втором варианте «На переломе» происходит изменение отношения автора к поэту. В разделе «Кризис индивидуализма» параграф «Трагический рыцарь» заменен параграфом о творчестве М. Арцыбашева, раздел «На переломе», содержащий анализ поэмы «Двенадцать», переименован в «Побежденный индивидуализм». Внесенные коррективы позволяют говорить о дискуссионном отношении Зощенко к Блоку – от неположительной оценки кризиса индивидуализма к одобрению победы над индивидуализмом. Наблюдение показывает, что Зощенко, наверное, замечает у Блока идею пути, имеет в виду творческую эволюцию от культа индивидуализма к его преодолению, «от личного к общему, от уединенной созерцательности к восприятию широкого круга действительности» [Максимов 1981, 29].
Художественная реализация темы пути частично проявлена в «сменах-чередованиях женских образов – от Прекрасной Дамы (ее реализация, феноменология) до Катьки из «Двенадцати» [Максимов 1981, 29], от облика «ангела» до «ведьмы» по фазам: «“Прекрасная дама”, “Незнакомка”, увы “знакомая” многим» [Белый 2011, 381]. Мотив метаморфозы женщин красной нитью проходит почти через три периода идейно-художественных исканий Блока, через его эстетику символизма.
В стадии тезиса идеологическое наполнение Прекрасной дамы обозначает романтическое стремление к мировой гармонии и космосу под влиянием философии души мира / вечной женственности В.С. Соловьева. В периоде антитезиса мир представляется хаосом. Прекрасная дама во многих стихах оказывается земной женщиной и воплощением тьмы. В фазе синтеза особенностью эстетики является демистификация – изображение Прекрасной дамы в образе реальной женщины Катьки и появление «человека “общественного”» [Блок 1963, 344]. Мотив любви носит постепенно демистификационный характер: от устремленности к утопической гармонии (Прекрасная дама), через сомнение (Незнакомка) к признанию действительности, противостоящей фантазии (Катька).
По поводу темы блоковской любви, обнаруженной в первых двух фазах, Зощенко делает иронические замечания в книге «На переломе»: «Много раз был поэт в “розовых цепях” у женщин: и у Прекрасной Дамы, и у Незнакомки… А в блеклые весенние ночи, когда так все таинственно, казалось поэту, что он влюблен не в простую обычную женщину, а в принцессу, да и эта принцесса не принцесса, а мечта, греза, виденье бесплотное» [Зощенко 2015, 34].
Пародия на эстетику блоковского символизма, тяготеющего к таинственности и иллюзорности любви, разработана в повести «М.П. Синягин (Воспоминания о Мишеле Синягине)».
Герой – как бы эпигон Блока – «многое понимал, любил красивые безделушки и поминутно восторгался художественным словом. Он сильно любил таких прекрасных, отличных поэтов и прозаиков, как Фет, Блок, Надсон и Есенин <...>. И в особенности, конечно, под влиянием исключительно гениального поэта тех лет А.А. Блока» [Зощенко 2008, 274–275].
Из повествования мемуариста мы узнаем, что под влиянием Блока Мишель влюблен в неизвестную женщину. Цитируем стих, выражающий влюбленность Мишеля в таинственную даму:
Оттого-то незнакомкой я любуюсь. А когда Эта наша незнакомка познакомится со мной,
Неохота мне глядеть на знакомое лицо, Неохота ей давать обручальное кольцо... [Зощенко 2008, 278–280].
Свадьба Мишеля с Симочкой представляет собой пародию на тему блоковской любви. Симочка – противоположный Прекрасной даме образ, названный героем «провинциальной курочкой». Комический свадебный сюжет резко противопоставлен стремлению героя к возвышенной красоте. Диссонанс между идеалом и реальностью скорее ироничен, чем трагичен, это доказывает, что любовь Мишеля покоится на химерической основе, из этого проистекает еще мотив унижения.
В сравнении с Симочкой Изабелла в начале сюжета более близка к Прекрасной даме. Однако женские образы не статичны, а подвижны на сюжетном уровне: их восприятие развивается по изменениям психологического состояния героя. Во время духовного кризиса Мишеля Симочка представляется Прекрасной дамой (теперь Симочка становится символом космоса и гармонии), Изабелла – незнакомкой и «гадиной и корыстной канальей» [Зощенко 2008, 310]. Эмоциональный поворот от восхищения Прекрасной дамой к осознанию факта является пародией Зощенко на блоковскую тему любви. При описании встречи Мишеля и Симочки автор, выступая в роли жестокого разоблачителя, детально рассказывает читателю о старости героини. Это, кажется, намеренная попытка автора уничтожить все химерические надежды. Интертекстуальное включение блоковского женского образа служит напоминанием о влиянии старой культуры дворянства на интеллигенцию, о несостоятельности фантазии в жестокой реальности.
Пародия «направлена не только на, но и против прототекста, удачная пародия является действенным способом литературной борьбы, которая способствует эволюционному развитию литературных форм и жанров» [Лушникова 1995, 66]. Пародия на блоковскую эстетику содержит скрытые размышления Зощенко о проблематике литературного наследования, о творческом потенциале интеллигенции и направлении развития послереволюционной литературы. Поэтому, на наш взгляд, внутренней мотивацией повести «М.П. Синягин (Воспоминания о Мишеле Синягине)» является поиск нового типа художественного творчества, отражающего современную жизнь. Высокая оценка Зощенко реалистического изображения революции в поэме «Двенадцать» дана как некая надежда на новое направление в литературе: «А. Блок написал поэму “Двенадцать” о новом Петербурге, о Петербурге после октября 17-го года. И в этой героической поэме казалось все новым, от идеи до слов. <…> Тут уже новые слова, новое творчество, и не оттого, что устарели совершенно слова, и мысли, и идеи наши, нет, оттого, что параллельно с нами, побочно, живет что-то иное, может быть и есть – пролетарское» [Зощенко 2015, 39–40]. Открытие поэтом нового содержания и новой формы литературы, по мнению Зощенко, предлагает возможность развития пролетарской литературы в ситуации, когда современная литературная молодежь пребывает в творческом упадке, трафаретно подражая старым формам и прежнему строю речи, из которых ушло основание – сама реальная жизнь.
Критическое отношение Зощенко к старой культуре прослеживается в письме к М. Горькому: «Я всегда, садясь за письменный стол, ощущал какую-то вину, какую-то, если так можно сказать, литературную вину. Я вспоминаю прежнюю литературу. Наши поэты писали о цветках и птичках...» [Зощенко 2015, 144]. Подчеркиваем, что Зощенко не отрицает укрепление связи с классической традицией и сам берет питательную почву у Гоголя, Чехова и др. Авторское неодобрение состоит в формальном перенесении классического произведения без адаптации к требованиям эпохи, по его словам, «у нас до сих пор идет традиция прежней интеллигентской литературы, в которой, главным образом, предмет искусства – психологические переживания интеллигента. Надо разбить эту традицию потому, что нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось» [Зощенко 2015, 72]. Будучи активным участником дискуссий о направлении развития новой литературы, Зощенко пишет статьи «Основные вопросы нашей профессии», «Литература должна быть народной», «О литературном искусстве» и т.п. Суть этих статей можно свести к социально-практической значимости литературы: создание для современных читателей новой литературы, интегрирующей художественный опыт прошлого в современную деятельность, новая литература должна «формировать то, что не сформировано прежней литературой», «построить такой мир и такую речь, которые не то что были бы тождественны с подлинной жизнью», она должна быть рассчитана «на читателя нашего времени, а не на читателя, умершего до революции» [Зощенко 2015, 78]. В новой литературе должен быть создан «сильный и цельный новый человек» [Томашевский 1990, 23].
В книге «На переломе» присутствует обсуждение крайностей индивидуализма, характерных для современной литературы. Первая из них относится к животному началу в человеке – «“все позволено”, радость его жизни – в искании утех и наслаждений». Противоположная крайность представлена в типе «неживого человека», связанного с образом Блока; его характеристикой являются «пустота, смертная тоска и смерть» [Зощенко 2015, 31]. Эти два типа персонажей созвучны образам «зверя» и «неживого человека», они позже получают продолжение и развитие в «Мишеле Синягине».
В художественном мире Зощенко животное начало нередко означает свойства, эмоции, реакции, связывающие человека с животным миром, такое определение исходит из оппозиций: зверь – человек, животное – человеческое, инстинкт – разум, природа – культура. Животное начало (или образ «зверя») имеют следующие черты:
-
1. варварство. «…В этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем» [Зощенко 2018, 50];
-
2. приобретение чувства животных и животного инстинкта, склонность к нецивилизованному укладу жизни. «Ему уже рисовались картины, как он живет в полузаваленной землянке, среди грязи и нечистот, и как ползком, как животное, на четвереньках вылезает из своей норы и отыскивает пищу» [Зощенко 2018, 78];
-
3. внешний и физический животный поступок, такой как бесцельное бегство, обгрызание ногтей. Эти поступки обычно представляют собой некую аутоагрессию вследствие невроза, ответную реакцию на стрессовую ситуацию и проявление инстинкта смерти. Например, Мишель временами, «как волк, бегал по своей комнате, кусая и грызя свои ногти» [Зощенко 2018, 312]. При невыносимом отчаянии герой подсознательно пытается чем-то заместить внутреннее напряжение;
-
4. маниакальные жесты, крики, подражание звукам животных вместо речи. Душевное страдание и тревога в этом контексте лишают персонажей способности высказаться вербально, взамен того – молчание. Тетка Мишеля «порхала по комнате и, подбегая к зеркалу, гримасничала и кривлялась, посылая неизвестно кому воздушные поцелуи» [Зощенко 2018, 300];
Другой тип – «неживой» человек, типичными свойствами которого являются:
-
1. пассивность, безжизненность и воля к смерти. «Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переставало биться. Ему казалось, что он умирает» [Зощенко 2018, 36];
-
2. выпадение из социальной системы, превращение в «лишнего» человека. Мишель после революции переживает безработицу, утрату имущества, семьи, любви и окончательно превращается в «лишнего» человека;
-
3. погружение в грезу и проявление безжизненности. Согласно наблюдениям Т.В. Кадаш, «“неживые” люди лишены чувства реальности. Мир, в котором они живут, – в значительной мере мир иллюзорный» [Кадаш 1995, 37]. Опираясь на это утверждение, добавим, что на «неживого» интеллигента накладывается и образ «мечтателя»;
-
4. духовное оцепенение и сознательное избегание воспоминаний о прошлом. «Спокойствие и ровное душевное состояние не покидали Мишеля. Он как бы потерял старое представление о себе. И, приходя домой, ложился спать, не думая ни о чем и ни о чем не вспоминая» [Зощенко 2018, 311–314];
Показано, что образы «зверя» и «неживого человека» совместимы с образами «мечтателя» и «лишнего человека».
В повести «М.П. Синягин (Воспоминания о Мишеле Синягине)» немало рассуждений о проблеме воспоминаний. Мотивы забвения и памяти занимают важное место в описании душевной драмы интеллигентов, причем они даны в экзистенциальной ситуации и в то время, когда в человеке проявлены «животное» и «неживое». Память о прошлом вызывает животный инстинкт и животный поступок, а забвение – символ безжизненности, «утраты знания о мире» (А. Блок).
За мучением интеллигентов как будто слышно страдание самого писателя: «Мне мешали воспоминания. Я постоянно помнил какие-то вещи» [Зощенко 2015, 289].
Для Зощенко преобразование жизни и человека – важная литературная задача. Писатель всегда с высокой литературной ответственностью желает, чтобы литература могла оказывать воздействие на нравственную жизнь и выполнять свою функцию «социальной педагогики» (М. Горький). В его прозе актуальна идея социалистической перестройки внутреннего мира человека. Зощенко пытается стать социальным реалистом, по его мнению, помимо метода реалистического изображения действительности понятие социалистического реализма включает в себя и целеустремленность автора, вовлекающую читателя в круг «социалистических идей», «работу над сознанием читателя, вовлечение читателя в данную тему и идею» [Зощенко 2015, 64].
Кроме того, биография Мишеля описана в мемуарном жанре в хронологическом порядке. Автор стремится придать повести эффекты документальности и объективности. В мемуарном жанре важные социальные события обычно проецируются на историю отдельной личности, оказывая значительное влияние на траекторию человека. Мемуары и биографические произведения предоставляют возможность понять и воссоздать прошлое, в них отражаются эпохи и определенные поколения людей. Зощенко сознательно стилизует «Воспоминания о Мишеле Синягине» под мемуары, возможно, желая показать, что интеллигенты, подобные Мишелю, были типичны для своего времени и что их трагедия имела реальную социальную основу. Нужно также добавить, что в самом обращении к мемуарам есть ирония. Повествователь создает биографию не героя, великого поэта, а маленького человека, неудачника. М.О. Чудакова пишет: «В своей частной жизни герой действует как бы под диктовку блоковской поэзии» [Чудакова 1979, 188]. Жизнь и творчество Блока превращается в имплицитный интертекст, оправдывающий трагизм судьбы Мишеля. Любопытно, что «тему гибели старой России Зощенко сталкивает каждый раз с философией Блока» [Чудакова 1979, 188]. Блок становится представителем интеллигенции переходного периода, когда остро вставала проблематика кризиса существования и преобразования интеллигентской прослойки.
Блок назван А.В. Луначарским «последним крупным художником русского дворянства» [Луначарский 1963, 465], и это небезосновательно. Поэт живет во времена великих потрясений и «переоценки всех ценностей» [Магомедова 2017, 139]. Типичными чертами эпохи являются острейшие противоречия, идеологические конфликты, судорожная борьба за старое и страстное влечение к новому [Максимов 1981, 17]. «Перелом-ность и кризисность этого периода остро переживалась современниками Блока» [Магомедова 2017, 140]. Стихи Блока фиксируют трансформацию эпохи, охватывая такие темы, как развитие литературных направлений, смена мировоззрения и эстетических систем, преобразование человека и жизни в новое время, духовные искания и выбор пути интеллигенции. Биография Блока становится материалом исследования внутреннего мира интеллигенции в период культурно-исторического перехода. Пародия на символизм, наряду с реминисценциями из биографии Блока и отсылкой на его идентичность интеллигенции, вносит в текст Зощенко многоплановую конструкцию смысла.
Список литературы Пародия на символизм А. Блока в прозе Михаила Зощенко
- Белый А. Мастерство Гоголя: исследование. М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. 412 с.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 8. Письма. 1898-1921. М.; Л: Гослитиздат, 1963. 772 с.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. Стихотворения. 1897-1904. М.; Л.: Гослитиздат, 1960. 716 с.
- Зощенко М.М. Конец рыцаря печального образа // Мих. Зощенко: Pro et contra, антология. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015. С. 34-42.
- Зощенко М.М. Литература должна быть народной // Мих. Зощенко: Pro et contra, антология. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015. С. 67-74.
- Зощенко М.М. О языке // Мих. Зощенко: Pro et contra, антология. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015. С. 77-78.
- Зощенко М.М. Основные вопросы нашей профессии // Мих. Зощенко: Pro et contra, антология. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015. С. 62-66.
- Зощенко М.М. Переписка Зощенко с Горьким. 1927-1936 гг. // Мих. Зощенко: Pro et contra, антология. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015. С. 139-150.
- Зощенко М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. Сентиментальные повести. М.: Время, 2008. 640 с.
- Зощенко М.М. Трагедия индивидуализма. Борис Зайцев // Мих. Зощенко: Pro et contra, антология. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015. С. 27-32.
- Кадаш Т.В. «Зверь» и «неживой человек» в мире раннего Зощенко // Литературное обозрение. 1995. № 1. С. 36-38.
- Луначарский A.B. Александр Блок // Луначарский A.B. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1963. С. 464-496.
- Лушникова Г.И. Интертекстуальность художественного произведения. Кемерово: КемГУ, 1995. 82 с.
- Магомедова Д.М. «Крушение гуманизма» А. Блока и «Закат Европы» О. Шпенглера: источники и параллели // Новый филологический вестник. 2017. № 2. С. 139-152.
- Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.: Советский писатель, 1981. 552 с.
- Томашевский Ю.В. Вспоминая Михаила Зощенко. Л.: Художественная литература, 1990. 512 с.
- Томашевский Ю.В. Лицо и маска Михаила Зощенко. М.: Олимп, 1994. 368 с.
- Чудакова М.О. Поэтика Михаила Зощенко. М.: Наука, 1979. 200 с.