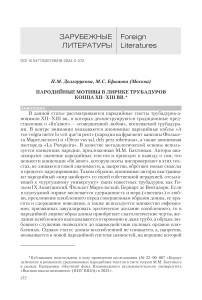Пародийные мотивы в лирике трубадуров конца XII-XIII вв
Автор: Долгорукова Н.М., Ефимова М.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются пародийные тексты трубадуров-анонимов XII-XIII вв., в которых деконструируются традиционные представления о «fin’amor» - «совершенной любви», воспеваемой трубадурами. В центре внимания оказываются анонимные пародийные коблы «A vos volgra metre lo veit que’m pent» (пародия на фрагмент кансоны Фолькета Марсельского) и «Dieus vos sal, dels petz sobeirana», а также анонимная пасторела «La Porqueira». В качестве методологической основы используется концепция пародии, предложенная М.М. Бахтиным. Авторы анализируют значение пародийных текстов и приходят к выводу о том, что ценности концепции «fin’amor», которую поэты ниспровергают в этих текстах, не лишаются своей значимости, а, напротив, обретают новые смыслы в процессе пародирования. Таким образом, анонимные авторы выстраивают пародийный «мир наоборот» со своей собственной иерархией, отсылающей к «куртуазному универсуму» таких известных трубадуров, как Гильем IX Аквитанский, Фолькет Марсельский, Бернарт де Вентадорн. Если в куртуазной лирике воспевается сдержанность и мера («mezura») в любви, преклонение влюбленного перед совершенным образом донны, ее красота и сдержанное поведение, а также используется множество эвфемизмов, призванных завуалировать эротическое желание влюбленного, то в пародийной лирике образ донны приобретает скатологические черты, желания влюбленного высказываются откровенно и даже грубо, а образы любовного служения низводятся до взаимодействия половых органов влюбленных. Однако статус донны-возлюбленной не снижается, а, напротив, возвышается в новой пародийной системе ценностей, на вершине которой торжествует «материальный низ». Таким образом, делается вывод о возвышающем смысле пародии, которая лишь на первый взгляд опровергает, а при более глубоком рассмотрении утверждает ценности магистральной традиции, на которую направлена.
Трубадуры, пародия, fin'amor, м.м. бахтин
Короткий адрес: https://sciup.org/149146228
IDR: 149146228 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-272
Текст научной статьи Пародийные мотивы в лирике трубадуров конца XII-XIII вв
Пародийные мотивы в песнях трубадуров появляются практически одновременно с расцветом самой традиции [Bec 1984, 7–8; Léglu 2000, 1] в XII в., хотя наибольшее количество пародийных текстов приходится на XIII в. – время бурного, хотя и весьма неравномерного развития этой лирической традиции в разных регионах юга Франции и Италии [Cabré 1999, 130].
Проблема пародии в контексте средневековой словесности в настоящее время далека от разрешения [Jeay 2010, 15–35]. Тексты трубадуров переполнены формулами, традиционными топосами, общими местами. Различить диалог, в том числе полемический, по-своему деконструирующий традицию или просто размышляющий над ней, и пародирование не всегда оказывается простой задачей. В традиции куртуазной лирики даже наличие скатологической образности как таковой не может считаться достаточным основанием для определения текста в качестве пародийного, поскольку, например, в таком жанре, как тенсона , непристойные темы вполне естественно могут быть интегрированы в традиционный дискурс, а в кан-соне трубадур способен далеко заходить в развитии эротической образности и использовать достаточно грубую лексику (так, к примеру, в кансоне PC 70.15 (обозначение текстов корпуса дается по индексу, представленному в указателе А. Пилле и Г. Карстенса [Pillet, Carstens 1933]) «Chantars no pot gaire valer», «Пение ничего не стоит…» Бернарт де Вентадорн называет некоторых дам словом «merchadandas», «продажные женщины»).
В данной статье нас будут интересовать прежде всего пародии на конкретные тексты и произведения, в которых однозначно «переворачивается», обесцениваются или переоцениваются традиционные для лирики трубадуров топосы (в русскоязычной историографии эти тексты были кратко рассмотрены в статье П.Ю. Шамаро [Шамаро 2010]). Поскольку речь пойдет о текстах с «карнавальной» образностью и содержанием, где активно будет конструироваться мир «наоборот» со своими собственными ценностями и иерархией, в качестве методологической основы нам хотелось бы руководствоваться концепцией пародии, сформулированной М.М. Бахтиным. В понимании Бахтина пародия в Средние века и раннее Новое время, «отрицая, <...> одновременно возрождает и обновляет» [Бахтин 1990, 16]. Сам Бахтин в своем труде не раз обращается к средневековой пародийной литературе на народных языках, травестирующей ценности феодального общества (к таким ценностям можно отнести в том числе и представления о «fin’amor» ), и рассматривает ее как одно из отражений традиции «карнавального смеха» [Бахтин 1990: 20–21]. Тексты, рассматриваемые в данной статье, Бахтин едва ли мог знать, но, на наш взгляд, они с легкостью встраиваются в сформулированную им концепцию.
Рукописная традиция подтверждает тот факт, что произведения, принадлежащие к двум, казалось бы, противоположным линиям, могли восприниматься в едином контексте. Если текст создавался в качестве пародии на конкретное произведение, то он зачастую помещался сразу же после этого произведения, без какого-либо особого выделения (см., например, анонимную коблу «Dieus vos sal, de pretz sobeirana» и пародию на нее в R71sup. (MS G) Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Fol. 129v [R71sup, 129v]). Это в свою очередь возвращает нас к критике историографической традиции, которая привыкла рассматривать «магистральную» и «пародийную» линии как текст и контртекст [Bec 1984, 8].
Существует также противоположная точка зрения, согласно которой пародирование – и даже самопародирование – было неотъемлемой частью не только создаваемого трубадурами, но и воспроизводимого исполнителями-жонглерами текста. К этой точке зрения близка Л. Кендрик [Kendrick 1988, 171–175, 184–185].
Для дальнейшего рассуждения нам хотелось бы, учитывая всю условность этих понятий, определить особенности магистральной и пародийной линий в лирике трубадуров.
Итак, для линии магистральной, к которой принадлежит большинство текстов корпуса, характерно воспевание «fin’amor» – «совершенной» любви к донне, сосредоточенность на любовном желании и его чувственном отображении, возвышение и усиление описываемого любовного чувства через использование языка сакрального, умеренное и сдержанное описание эротической составляющей любви [Lazar 1995, 72–101]. В свою очередь, пародийная традиция, как правило, деконструирует возвышенный тон магистральной линии и низводит описание желания до откровенно порнографических подробностей, посредством метонимического переноса: влюбленный и донна заменяются их половыми (или иными) органами. Так, «телесный низ» во всех его проявлениях выводится на первый план.
В свою очередь, необходимо уточнить, что пародийные тексты внутри этой традиции в целом можно разделить на две категории: первая представляет собой тексты, написанные в качестве пародии на конкретный существующий текст; вторая же представляет пародию менее очевидную: такие тексты полемизируют с общепринятыми в традиции представлениями о « fin’amor» , иронизируют над ее стереотипами, жанровыми условностями и т.д. К этой же категории можно отнести тексты, пародирующие не конкретные произведения, а стиль или метрику и тип рифмовки определенных текстов (так называемые контрафакты).
Одним из наиболее известных пародийных текстов трубадуров является кобла кон. XII – нач. XIII в., пародирующая одну из строф кансоны Фолькета Марсельского PC 155.1 «Amors, merce: no mueira tan soven», «Любовь, сжалься, чтобы я не погибал так часто…».
A vos vòlgra mostrar lo mal qu’ieu sent
Et als autres celar et escondire;
Qu’anc no’us pues dir mon còr celadament;
Donc, s’ieu no’m sai cobrir, qui m’èr cubrire?
Ni qui m’èr fis, s’ieu eis mi sui traïre?
Qui si non sap celar non es razós Que’l celon cil a cui non es nuls pros.
Вам я хочу показать горе, которое переживаю,
А от других спрятать его и сокрыть, Ибо никогда я не мог втайне высказать вам то, что лежит у меня на сердце, Что ж; если я не умею скрываться, то кто меня скроет?
И кто будет мне предан, если я сам себе предатель?
Если кто-то не может скрываться сам, то нечего и ожидать, Что кто-то другой его скроет, не имея с этого никакой выгоды?
A vos vòlgra metre lo veit que’m pent E mos colhons desobre’l cul assire; Eu non o dic mais per ferir sovent, Car en fotre ai mes tot mon albire, Que’l veit chanta, quant el ve lo con rire, E per paor que no’i venga’l gelós, Li met mon veit e retenc los colhós [Bec 1984, 170–171].
В вас я хочу вложить свой член, который висит у меня [между ног] И усадить яички над вашей задницей, Я говорю это только для того, чтобы больше раз овладеть вами, Ибо все мои мысли – о совокуплении, И член поет, когда видит смеющееся влагалище,
Но в страхе, как бы не вошел сюда ревнивец, Я вгоняю туда член и снаружи оставляю яйца.
В анонимной пародийной кобле, созданной на основе этого текста, сосредоточенность на сокрытии любовного желания сменяется резким переходом к описанию физиологических подробностей процесса соития. В этом пародийном мире «à l’envers» поэтическое вдохновение сравнивается с физиологической составляющей сексуального возбуждения, в противоположность традиционным для лирики трубадуров обоснованиям поэтического дара. Лирический герой думает не о «surplus» [Долгорукова, Любавина 2022, 70–87], а об откровенном «fotre», «совокупление». Таким образом аноним развенчивает воспеваемое в лирике трубадуров желание, называя прямо и безыскусно его объект, который как правило скрывается за эвфемизмом.
С формальной точки зрения пародия повторяет рифмовку оригинальной строфы и ее начало («a vos volgra», «вам я хочу» ). Содержащийся в первом стихе намек на импотенцию лирического героя в очередной раз сводит на нет возвышенный тон высокой любовной лирики. Пародийный текст становится своего рода дублетом оригинального, несущего в себе традиционные для лирики трубадуров черты.
Возникает вопрос, почему именно этот текст стал объектом для пародии. Фолькет Марсельский был достаточно известным трубадуром, его песни пользовались большой популярностью. В художественном плане они в значительной степени следуют принятым традициям, однако Фоль-кет заинтересован не столько в самой «fin’amor» , сколько в риторической составляющей творчества, что позволило некоторым авторам назвать его стиль близким схоластике [Schulman 2001, 14–15]. В его произведениях также практически полностью отсутствует телесность, лирический герой сосредоточен исключительно на рациональном и эмоциональном 276
переживании своих чувств. В каком-то смысле эти тексты вполне могут служить стилистическим образцом, в котором сосредоточены все черты, типичные для традиции, и, следовательно, быть весьма удобными для пародирования. Также известно, что Фолькет Марсельский в связи с событиями Альбигойского крестового похода и борьбой с ересями на территории Окситании стал ревностным католиком и получил сан Тулузского архиепископа. Робер де Сорбон описывает сцену, из которой становится ясно, что, даже когда Фолькет стал архиепископом, его песни по-прежнему продолжали исполняться: всякий раз, когда Фолькет слышал их, он обрекал себя на добровольный пост в знак раскаяния за прошлое [Schulman 2001, 36]. Мы не знаем точной датировки пародийного текста, но, если он был написан после того, как Фолькет принял архиепископскую митру, то пародия получает дополнительное значение.
Помимо откровенно порнографических образов пародийные тексты могут концентрироваться на других аспектах телесного низа, например, частой темой здесь становится испускание газов. Данный мотив в пародийном дискурсе фигурирует в связи с именем одного из наиболее известных трубадуров – Бернарта де Вентадорн. Его имя не раз становилось объектом насмешек из-за ассоциации с «испусканием ветров»: существует кобла, пародирующая текст этого трубадура, который начинается со слов «Can la freid’ aura venta», «Когда веет свежий воздух…» [Bec 1984, 173– 175]. Анонимный пародист, опираясь на искажение этой строки и насмешку над автором, начинает свой текст со слов «Quan lo petz del cul venta», «Когда из задницы исходят ветра…», в дальнейшем развивая данный сюжет в безудержном духе карнавальной вакханалии.
Эта тема также становится центральной в другой анонимной пародии, которая была написана на основе коблы неизвестного автора:
Dieus vos sal, de pretz sobeirana, E vos don gaug e vos lais estar sana E mi lais far tan de vostre plazer Que’m tengatz car segon lo mieu voler. Aissi’m podetz del cor guizardon rendre E, s’anc fis tort, ben me’l podetz car vendre.
Пускай хранит вас Господь <приветствую вас>, владычица достоинства, И подаст вам радость и здоровье И позволит мне так поступать, согласно с вашей волей, Чтобы вы любили меня согласно величине моего желания.
Так вы сможете преподнести мне достойное вознаграждение
И, если я когда-либо было к вам несправедлив, заставить меня дорого заплатить за это.
Dieus vos sal, dels petz sobeirana, E vos don far dui tals sobre setmana Qu’audan tuit cil que vos vendrán vezer; E quan vendrà lo sendeman al ser, Ve’n posca un tal pel còrs aval descendre Que’us faça’l cul e sarrar e ‘scoissendre [Bec 1984, 165–166].
Пускай хранит вас Господь, владычица газов, И позволит вам извергнуть их дважды за неделю, Чтобы их услышали все, кто придет вас увидеть;
И когда наступит завтрашний вечер, Пусть Он позволит вам так извергнуть газы, Чтобы ваша задница сжалась и разорвалась.
Пародия начинается с игры слов, построенной на созвучии характерного для лирики трубадуров термина «pretz», «достоинство» и «petz», «испускание газов», повторяется начало первых двух строк, и в дальнейшем от оригинала остается только избранный тип рифмовки. В оригинальном тексте ведущим мотивом становится всецелое подчинение и самоуничижение влюбленного по отношению к донне. Автор пародийного текста не разрушает эту основу, но желает, чтобы донне была дарована способность совершать чудеса в газо-испускании. Накопление газов становится аллегорией непомерной гордыни, тогда как их извержение – проявлением высокомерия [Levron 2011, 77], и сосуд, переполненный спесью, неизбежно должен лопнуть.
В этих текстах статус донны, несмотря на обесценивание «fin’amor» не снижается, скорее мы просто оказываемся в другой, «карнавальной» системе ценностей, на вершине которой торжествует материальный низ. Исследователями зачастую высказывается мнение, согласно которому низведение женщины до ее половых органов или других акцентирован-но телесных составляющих свидетельствует о той мизогинии, которая в культуре всегда соседствует с возвышением женщины [Bec 1984, 15], являясь в определенном смысле обратной стороной этого процесса. Однако такие выводы не кажутся нам релевантными в контексте средневековых пародийных произведений, где половые органы – часть материальной стихии, карнавального «мира наоборот», по Бахтину.
Помимо однозначно пародийных текстов, мы встречаем также произведения, не имеющие конкретных текстов-референтов, но в историографической традиции рассматриваемые как имеющие пародийное содержание. Прежде всего это касается уже упомянутого так называемого «контртекста», то есть произведений, которые содержат деконструирующую обычную для традиции систему образов. В пародийном ключе исследователи рассматривают тексты, относящиеся к так называемой «l’affaire Cornilh» (произведения Арнаута Даниэля, Раймона де Дюрфорта и Трука Малека PC 29.15, PC 447.1 и др.), где три трубадура спорят о том, допустимо ли влюбленному выполнять требования своей донны, если она просит ублажить ее не вполне «традиционным» образом. Несмотря на специфичность обсуждаемого вопроса и обилие физиологических подробностей в рассуждениях участников спора, они остаются в рамках дискурса, традиционного для трубадуров, и данные тексты вкупе представляют собой подобие жанра «tenso» или «partimen» , в которых зачастую в качестве предметов спора выступали достаточно пикантные вопросы (см. список тем в критическом издании тенсо и партименов Р. Харви, Л.М. Патерсон и А. Радэлли [The Troubadour Tensos… 2010, XXXII–XXXIX]).
Гораздо более серьезную полемику с традицией представляет другой анонимный текст – пасторела XIII в. «La Porquiera», «Свинарка». Пасто-рела – весьма необычный и не всегда вписывающийся в традицию куртуазной лирики жанр (можно даже сказать, что этот жанр возник как своего рода инверсия куртуазной песни [Monson 1999, 203]).
Пасторела «Porqueira» выделяется среди прочих пасторел не только обилием физиологических подробностей и смелостью сюжетной составляющей, но и разительным контрастом между авторской речью и авторскими же описаниями происходящего. Так, видя свинарку, лирический герой оказывается поражен уродством ее тела.
Et hac son cor fer e lag, Ее тело было уродливым и отвратительным, escur e negre cum pegua; Смуглым и черным, точно смола;
grossa fo coma tonela, Она была толста, как бочка, et hac cascuna mamela И каждая из ее грудей tan gran que semblet Engleza [Troubadours]. Была столь велика, что эта женщина казалась англичанкой.
Помимо уродства, свинарка также оказывается грязна и разговаривает грубо, чем подтверждает свое низкое происхождение. Она во всем противоположна куртуазному идеалу кансоны [Levron 2011, 74] и представляет из себя своего рода «анти-донну».
Однако, обращаясь к свинарке, герой следует всем правилам так называемого высокого регистра, будто обращается к знатной донне, и перечисляет все качества, противоположные ее собственным, как бы дополнительно подчеркивая, что ее образ – это образ донны наоборот.
Na corteza, Куртуазная госпожа, bela res e gent apreza, Красавица, хорошо воспитанная, digatz me si n’etz priucela [Troubadours]. Скажите, не девственница ли вы?
Вопрос о девственности также разрушает горизонт ожидания: читатель, привыкший к образам прекрасных дев из лирики и рыцарского романа и к образам прекрасных дев-мучениц из житийных текстов, сомневается в искренности положительного ответа героини.
В своих речах автор по-прежнему следует за регистром высокой лирики, описывая, в подражание классическим трубадурам, горе, которое его снедает, и свое желание получить от «донны» ответ.
Toza, fi·m ieu, plazentiera, «Милая девчушка», говорю я, per vos hai trag gran afan, «Из-за вас я претерпеваю великое горе, per que·us prec que volontiera Оттого и прошу вас, чтобы по своей воле me digatz so que·us deman [Troubadours]. Вы ответили на мой вопрос».
Свинарка отвечает ему, что она девственница, однако лирический герой напоминает ей о связи с другим пастухом. Вот как выглядит диалог свинарки и лирического героя об этой любви:
“Porquiera, segon semblan, «Свинарка, как кажется мне, vos l’amatz d’amor entiera?” Вы любите его совершенной любовью?»
“O, yeu, mais que porcz aglan, «О да, больше, чем свиньи любят каштаны ni cauls trueja porceliera!” [Troubadours]. И родившая свиноматка – капусту!»
«Entiera» – один из наиболее распространенных в лирике трубадуров эпитетов для любви, он синонимичен знаменитому «fina» и служит для описания «совершенной» любви трубадура к его донне. Здесь же все оказывается наоборот: мало того, что этим словом описывается любовь свинарки и пастуха, но и сама свинарка по-своему раскрывает содержание этого эпитета, привлекая актуальные для нее сравнения со свиньями и желудями.
Заканчивается пасторела в определенном роде нравоучительно: обнаружив, что свинарка вовсе не девственница, лирический герой предлагает взять ее сзади, что в контексте средневековой сексуальной морали представляло акт содомии. На это свинарка отвечает уверенным отказом и уходит, но по дороге спотыкается и падает так, что оказывается задом кверху. Лирический герой видит в этом знак, что свинарка уже не раз совершала то, чего он от нее требует, и теряет к ней интерес.
В финальной посылке – торнаде – этой пасторелы мы находим послание – возможно, пародийное – к благородной даме, которое, по всей видимости, призвано контрастировать с содержанием всего произведения.
Flors Humils, no si deslassa Цветок смирения, да пребудет с вами de vos purtatz ni beleza, Ваша чистота и красота, e quar etz flors de nobleza, И поскольку вы цветок благородства, me dicta·l cor e·m martela Мое сердце говорит мне и повторяет, qu’es fols qui de vos s’apela [Troubadours]. Что безумен тот, кто обвиняет вас.
Сравнение с цветком, подчеркивание чистоты и скромности родственны мариологической метафорике, таким образом автор, кажется, привлекает дополнительное измерение для контраста с образом героини пасто-релы – измерение сакрального. Особенно едко звучат пародийные ноты в этой торнаде, если мы предположим, что она также обращена к героине пасторелы.
Пародийные тексты, которые мы рассмотрели в этом небольшом обзоре, показывают, каким образом переворачивание традиционных для лирики трубадуров топосов в духе гротескного реализма и наделение их новыми, «карнавальными» смыслами позволяют посмотреть на «fin’amor» с альтернативной точки зрения и увидеть, что авторы этих текстов не столько обесценивают традиционное для трубадуров понимание любви, сколько выстраивают альтернативную иерархию «à l’envers» .
Список литературы Пародийные мотивы в лирике трубадуров конца XII-XIII вв
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 543 с.
- Долгорукова Н.М., Любавина А.А. Семантика и коннотации слова "surplus" во французской и провансальской литературах XII в. // Studia Litterarum. 2022. Т. 7. № 1. С. 70-87.
- Шамаро П.Ю. Эротика в произведениях трубадуров // Средние века. Вып. 71(3-4). М.: Наука, 2010. С. 309-330.
- Bec P. Burlesque et obscénité chez les troubadours. Le contre-texte au moyen âge. Paris: Stock, 1984. 256 p.
- Cabré M. Italian and Catalan troubadours // The Troubadours: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 127-140.
- Jeay M. "Car tot est dit": parodie, pastiche, plagiat? Comment faire oeuvre nouvelle au Moyen Âge // Études françaises. 2010. № 46(3). P. 15-35.
- Kendrick L. The Game of Love: Troubadour Wordplay. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1988. XIV, 237 p.
- Lazar M. Fin'amor // A Handbook of the Troubadours / ed. by F.R.P. Akehurst, Judith M. Davis. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1995. P. 61-101.
- Léglu C. Between Sequence and Sirventes: Aspects of Parody in the Troubadour Lyric. Oxford: Routledge, 2000. 160 p.
- Levron P. Mélancolie et scatologie: de l'humeur noire aux vents et aux excréments // Questes. Revue pluridisciplinaire d'études médiévales. 2011. № 21. P. 72-88.
- Monson D.A. The troubadours at play: irony, parody and burlesque // The Troubadours: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 197-211.
- Pillet A., Carstens H. Bibliographie der Troubadours. Halle: Niemeyer, 1933. 518 S.
- R71sup. (MS G) Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana. 143 fol.
- Schulman N.M. Where Troubadours were Bishops: The Occitania of Folc of Marseille (1150-1231). New York; London: Routledge, 2001. 354 p.
- The Troubadour Tensos and Partimens: A Critical Edition / ed. by R. Harvey, L. Paterson, A. Radaelli. Vol. 1. Woodbridge: D.S. Brewer, 2010. XLV, 412 p.
- Troubadours // The Democratic Republic of Poetry. URL: http://trobar.org/ troubadours/ (дата обращения: 21.09.2023).