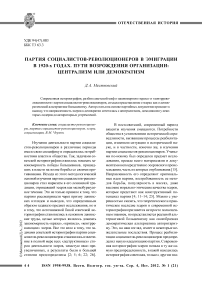Партия социалистов-революционеров в эмиграции в 1920-х годах. Пути возрождения организации: централизм или демократизм
Автор: Местковский Дмитрий Александрович
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 1 (21), 2012 года.
Бесплатный доступ
Современная историография, разбив советский миф о закономерном «крахе» и «контрреволюционности» партии социалистов-революционеров, создала представление о эсерах как о демократической альтернативе большевизму. Автор статьи на основе партийных документов приходит к выводу, что направленность эсеров к демократии сочеталась с централизмом, доходившим у некоторых лидеров до авторитарных устремлений.
Социалисты-революционеры, партия социалистов-революционеров, эсеры, социализация, в.м. чернов
Короткий адрес: https://sciup.org/14971824
IDR: 14971824 | УДК: 94(47).083
Текст научной статьи Партия социалистов-революционеров в эмиграции в 1920-х годах. Пути возрождения организации: централизм или демократизм
Изучение деятельности партии социалистов-революционеров в различные периоды имело свою специфику и определялось потребностями власти и общества. Так, задачами советской историографии ставилось показать закономерность победы большевиков, пришедших к власти на волне борьбы со своими противниками. Исходя из этого методологической основой изучения партии социалистов-революционеров стал марксизм в его ленинской традиции, отрицавший эсеров как мелкобуржуазное течение. Это не только привело к тому, что партию рассматривали через призму ленинских взглядов и выводов, что определенным образом задавало предмет исследования, но и к тому, что источниковой базой советской историографии становились в основном ленинские труды, целью которых являлось доказать закономерность «краха», «кризиса», «контрреволюции» эсеров. Все это вело к тому, что задачами советской историографии партии социалистов-революционеров становилось извлечение в полной мере всех «деструктивных» сторон деятельности эсеров, зачастую явно преувеличенных, а результаты были в большей степени предопределены [2; 5; 6; 22; 26].
В постсоветский, современный период акценты изучения смещаются. Потребности общества в установлении исторической справедливости, вызвавшие процессы реабилитации, изменили ситуацию в исторической науке, и в частности, конечно же, в изучении партии социалистов-революционеров. Учеными по-новому был определен предмет исследования, прежде всего материалами и документами непосредственно эсеровского происхождения, часть из которых опубликована [15]. Направленность его определяют оригинальные идеи партии, востребованность ее методов борьбы, популярность в массах, даже высокие морально-этические качества эсеров, которые предстают как конструктивный потенциал партии [4; 11–14; 25]. Можно с уверенностью сказать, что теоретическое и практическое наследие эсеров в современной историографии признается не просто полноценным знанием, но представляется реальной альтернативой большевизму как своеобразная демократическая альтернатива авторитаризму. Это, на наш взгляд, имеет и некоторые нежелательные последствия. Процесс реабилитации социалистов-революционеров предопределил некую идеализацию партии. Современная историография эсеров попала в ту же самую предопределенность, в какой находилась историография советская, только с другим зна- ком – эсерам придали исключительно положительный образ.
Налицо необходимость осознания этой проблемы исторической наукой. Целью данной статьи является попытка показать отсутствие в партии каких-либо однозначно определяемых тенденций и действующих факторов: отрицательных, как они предстают в советской историографии, или положительных, как в историографии современной. Иллюстрациями для этого выбрана ситуация в эсеровской эмиграции после революции и Гражданской войны, что и определило хронологические рамки работы: 1920-е – начало 1930-х годов. Безусловно, необходимо отметить, что данная проблема может считаться лишь обозначенной в данной статье.
В 20-х гг. XX в. эсеры вновь оказались в эмиграции. Первоначальная неупорядоченность волн эмиграции после осознания необратимости ситуации в России сменилась тем, что X Совет партии в 1921 г. образовал «представительный орган» партии за рубежом. В принятых тезисах указывалось, что все члены партии за рубежом «должны входить» в создаваемые там партийные организации. Специально создаваемая Заграничная делегация партии (далее – ЗД), «подчиняющаяся» только партийному центру, должна была «руководить» этими организациями и ведать «переброской партийных сил», то есть создавать группы для работы в России [19, с. 784]. Из письма Центрального комитета, адресованного Заграничной делегации, от 28 января 1921 г. видно, что последней отводилась роль инструмента первого. В письме указывалось, что ЗД «назначалась» ЦК и могла пополняться кооптацией, но «не избиралась» заграничными партийными организациями [16, л. 78, 83]. Все это показывает, что воссоздание партии за границей происходило в не демократических мобилизационных формах, а условия в России влияли на централизованный характер структуры партийной организации за рубежом.
Параллельно воссозданию организации за границей шел пересмотр теоретических концепций с учетом опыта, приобретенного в России. Новые подходы к определению социализма как общественного строя, емко выраженные в термине «демократический социализм», рассматривались В.М. Черновым в двух формах – демократической и не демок- ратической. Само понятие «не демократический социализм» свидетельствовало об исправлении и дополнении прежней теории. В.М. Чернов указывал, что стремление «ускорить ход вещей» являлось причиной «антидемократической тенденции» в социалистическом лагере. Революционная «элита», вставшая над «массой», получала «чрезвычайные полномочия», порождавшие ситуацию, не соотносимую с демократией и социализмом. Тем самым создавалась ситуация возвышения одной группы над другой, «элита» вставала над «массой», что и было основой «антидемократической тенденции» [7, л. 47].
Демократическая тенденция в этой связи виделась как комплекс мероприятий, обратных возвышению «элиты» над «массой», сводимых к раздаче властных полномочий. Этот процесс у В.М. Чернова представал в форме «широчайшей децентрализации власти», «черного передела» и «расчленения государственной компетенции». Сутью его была передача власти от одной «элиты» множеству «меньшинств», то есть выделение из общей «массы» отдельных групп и наделение их такими возможностями, которые позволяли бы им не раствориться в «массе».
Выход на первый план в теоретических построениях виднейшего политического деятеля эсеров различных групп меньшинств, исключавших «тиранию большинства» и выступавших в противовес «элите», являлся в этой концепции необходимым условием демократического социализма. В.М. Чернов предлагал ряд мер, исключавших «подавление меньшинства большинством». Прежде всего это устройство «пропорциональной системы выборов», которая не позволила бы потеряться представителям меньшинства в выборной иерархии власти. Кроме того, образование «персональных автономий», представлявших собой образования «из разбросанных на обширной территории людей, нигде не представляющих сплошного массива», что также позволяло бы меньшинствам иметь свое представительство в различных органах [там же, л. 48, 50, 51].
В этом В.М. Чернов видел возможность для социализма избежать антидемократической тенденции. Видение демократии в партии усложнялось. Обращает на себя внимание и другое: вся программа эсеров, их теоретическая база в своем развитии пришла к тому, что для существования демократии требовались все новые и новые условия и специальные «гарантии». Идеи демократии сами себя не могли поддерживать и воспроизводить.
Новые формы демократии были реализованы в партийном строительстве. Съезд, прошедший в ноябре 1923 г. в Праге, сумел примирить течения «партийцев» и «децентрализаторов», как называл их В.Я. Гуревич [23], или «партийцев и сторонников внепартийных методов работы», «левых» и «правых», по терминологии В.М. Чернова [8, л. 2], что стало реальным достижением новых теоретических разработок. Два разнонаправленных течения нашли основу для объединения. Партийцы, провозглашавшие политическую и организационную «спаянность» различных партийных групп, объединились с «децентрализаторами», выступавшими за автономию. Автономия понималась как автономия самой Заграничной организации «в целом», то есть как автономия от остальной партии, так и автономия отдельных ее «групп» и «течений», способствующих их «свободному выявлению своей индивидуальности» [8, л. 2, 3; 9, л. 8].
Такой результат был достигнут потому, что партийцы уступили. В образованной Заграничной организации (далее – ЗО) отношения должны были приобрести «согласительный», «договорный» характер, решения выноситься на основании «соглашения и паритета» большинства и меньшинства, с отказом от «майоризирования друг друга». Под отказом от майоризирования понималось «поддержание «согласительного», договорного типа организации»; признание группами «принципа паритетности» в Областном комитете (далее – ОК) Заграничной делегации; «неформальное», «совещательное» участие в редакции центрального органа печати представителя «правой части съезда». Итак, съезд продемонстрировал некий баланс, позволивший достигнуть соглашения.
Основой для будущей договоренности было соглашение о присутствии представителей обеих групп в важнейших партийных организациях эсеров – ОК, ЗО и Центральном органе печати партии (далее – ЦО) и отсутствие мер дисциплинарного взыскания [там же]. Это перечеркивало принципы российской организации, где была установлена строгая иерархия партийных органов и выборность на основе воли большинства. Это перечеркивало и постановления X и предшествовавших советов партии, требовавших «неукоснительного подчинения» дисциплине, принятия мер в борьбе «с сепаратизмом местных организаций» [19, с. 784]. ЗО и ее управленческий орган ОК были созданы съездом исходя из последних теоретических представлений о принципах демократичности и автономности.
Не только сам съезд, но даже выборы делегатов на съезд отражали новые идеи о конструировании демократии. Сама организация съезда в Праге призвана была привнести новые формы в партию. «Инструкция о порядке выборов...» предлагала выбирать делегатов не простым большинством голосов, а «по пропорциональной системе», что позволяло делегатам от небольших групп быть выбранными [10]. Это, несомненно, отражало идеи В.М. Чернова и показывало, что новые формы демократии были реальны.
Все эти идеи были закреплены в Уставе заграничной организации ПСР. Так, «выборный представитель» от групп являл собой не один голос, а то «число голосов», которое было «пропорционально численности группы». Съезд ЗО мог избирать «треть» от количества членов редакций, назначенного ЦК, что говорит о возможности влиять на редакцию ЦО представительных органов партии. ЦО в разрешении конфликтов между «различными частями» или «учреждениями» ЗО должен был выступать «последней инстанцией» спора, что говорит о возможности реализации определенных норм автономии. Даже исключение из ЗО было весьма демократично. Так, расследование в отношении «предложенного к исключению члена ЗО» должно было вестись с сохранением его «доброго имени и интересов», а в случае признания необходимости исключения подвергаемый этой мере мог «добровольно сложить с себя звание члена», чем все и заканчивалось [24, л.1 об.].
Наряду с открыто заявляемыми и развиваемыми новыми формами демократии в партии присутствовали и иные. «Антидемократическая тенденция», о которой писал в своей статье В.М. Чернов, не была чужда, соб- ственно, и эсерам. О ней не писали статей, ее не афишировали. Но она присутствовала в партии. Факты I съезда ЗО позволяют говорить о политике «партийной диктатуры», проводимой группой «партийцев». Характерными чертами этой политики называли попытки создания партийной «повинности», сводимой к стремлению передать всех членов партии в «полное распоряжение руководства партии», к призыву отказаться от «личных дел», а с помощью «охраны и неукоснительного наблюдения» контролировать их исполнение. Указывалось на попытки партийцев рядом «законов» ввести это в партии [23]. Подобные обвинения отнюдь не были вымыслом. Сторонники строгой партийной организации могли исходить из резолюций, принятых X Советом, которые в организационном вопросе наделяли представительство партии за границей правами «распоряжения» над членами партии и «переброски» партийных сил для использования в различных сферах партийной работы.
Обращает на себя внимание тот факт, что съезд, окончившийся «организационным компромиссом» между партийцами и децентрализаторами, реализовал идеи демократического социализма, позволившие создать Заграничную организацию. Ее руководящим органом стал Областной комитет, нормами организации для которого были заявленные съездом демократические принципы. Съезд продемонстрировал, что его организаторы, используя возможности введения в партии новых демократических форм, установили баланс и добились создания единой организации за границей. Выразителем другого течения в эсеровской зарубежной среде стала вышеназванная, сформированная в России для представительства партии за границей – Заграничная делегация, с заданными централистскими устремлениями, полученными для организации партии за рубежом.
Идеи демократии и централизма воплотились в разных партийных организациях. Первая, одержав победу, институализировалась в ОК, вторая – в ЗД, основываясь на полномочиях, полученных в России. Ориентированный на автономию и децентрализацию, выборный ОК подчинялся назначенной ЗД. Две разнонаправленные тенденции не могли не столкнуться: при создании в них было заложено противоречие.
Ситуация баланса сил, созданная съездом и объединившая партийцев и децентрализаторов, просуществовала недолго. Причиной изменений послужила принятая в 1925 г. резолюция Парижской группы эсеров о переносе «центрального руководства партии» за границу и постановке «его на базе представительства эсеровской эмиграции» [21, л. 3]. Фактически принятие этого предложения отменило бы право заграничного «представительства» партии на «руководство» работой партийных организаций за рубежом, а само руководство было бы передано в ОК. Власть, полученная ЗД в России и основанная на чрезвычайных полномочиях, с реализацией предложенного закончилась бы.
Перенос руководства за границу в представленном виде имел демократические устремления, ведь в СССР летом 1922 г. прошел судебный процесс над эсерами, а в марте 1923 г. – съезд «бывших» эсеров. В такой ситуации сложно было говорить о руководящих органах партии в СССР. Однако реакция на это предложение в Пражской группе, виднейшим представителем которой являлся В.М. Чернов, была отрицательной. Фактически оно лишний раз обосновывало права ЗД. В документе, принятом Пражской группой, указывалось, что каково бы ни было состояние «подпольной партийной организации» в России, лишь ее существование дает право «представительствовать партию» за границей [там же], что отрицало какую-либо возможность ЗО создать руководство партии. Безусловно, это могло иметь под собой основания в нормальной ситуации, но к моменту принятия резолюции существование таких организаций в России было под сомнением.
Фактически это решение Пражской группы противоречило тем концепциям, которые обосновывал «демократический социализм» и устанавливали решения I партийного съезда ЗО. Отрицалось не только естественно вытекавшее из сложившихся обстоятельств право создания «центрального руководства» партии за границей на основе эсеровской эмиграции. Посредством удержания ЗД руководящих прав над заграничными эсерами отрицалось заявленное право группы, а ЗО была именно такой группой, на автономию. Сложилась ситуация, когда ЗО, един- ственно представляющая в 20-х гг. XX в. партию организация, получила два руководящих органа. Это были назначенная в России ЗД с централистскими устремлениями и избранный демократически ОК. Такое решение перечеркивало те возможности, которые демонстрировали новые демократические идеи, принятые в партии, и свидетельствовало о стремлении ЗД сохранить права, полученные не в результате выборов, а путем назначения. Кроме того, это показывало, что демократические методы в своем развитии дошли до возможного предела.
Особо стоит сказать о роли В.М. Чернова. Фактически отказ Пражской группы пойти на формирование за рубежом руководства партии был продиктован нежеланием В.М. Чернова отказываться от прав члена ЗД. Обосновывая в последствии роль зарубежных эсеров, он указывал, что «организационный примат» эмиграции не допустим. Главный партийный теоретик считал, что только «выстраданное» в России может представлять что-то «полноценное». Партия в России была загнана «в подполье», уровень ее личного состава «качественно понижен», однако ничто это не давало эмиграции преимуществ, даже ее большая «квалифицированность» или «представительность». Единственным выходом В.М. Чернов считал то, что эмиграция будет «прислушиваться» к голосу партии в России [1, л. 4].
Может показаться странным такое упорное отстаивание организации в России, притом что само существование ее там в это время было под вопросом. Этому есть одно объяснение. Подрывая авторитет эмиграции, В.М. Чернов делал нелегитимными ее попытки организовать управление партии на эмигрантской основе. Отказывая эмиграции как единственной на тот момент партийной организации в праве на съезде сформировать демократическое руководство, он доказывал необходимость сохранения назначенной давным-давно ЗД, члены которой не переизбирались. Не давая возможности создать заграничным эсерам организацию в духе заявленных демократических идей, В.М. Чернов тем самым отстаивал противоположную идею. Эта же роль его видна и в событиях, развернувшихся вокруг ЦО партии, где он остался единственным редактором, устранив осталь- ных и сосредоточив при этом их полномочия в своих руках [17]. Эта же роль В.М. Чернова видна и в работе согласительной комиссии, где для своего участия и участия Пражской группы в работе съезда он ставил как условие сохранение функций ЗД и ЦО [18].
Идея о том, что руководство партии должно оставаться в России, в то время как никакого руководства в стране быть не могло, была выгодна лишь такому органу, как Заграничная делегация. Это открывало дорогу к бессменной власти, что и становилось целью В.М. Чернова – получить власть в партии, основанную не на выборности, а на престижности, авторитете. Именно этому и служили заявления о преимуществе власти, полученной еще в России.
То, к чему стремился В.М. Чернов, может быть, в противовес новым чертам демократизма охарактеризовано как новые черты централизма. По своему содержанию они были противоположны. И хотя эти черты проявились в Резолюции Лос-Анжелесской группы, принятой в далекой и периферийной организации, они показывали, что в партии были определенные силы, представлявшие антидемократическую тенденцию. Упомянутая резолюция – небольшой документ, принятый во время поездки В.М. Чернова по Соединенным Штатам. Его сутью было утверждение о том, что лишь признав в В.М. Чернове партийного руководителя, обличенного «высоко ответственной ролью вождя», партия сможет заняться «конструктивной» работой [20, л.1, 1 об.]. Партийный централизм становился авторитарным. И если в некоторых организациях подобное встречало неприятие, то в других воспринималось как должное.
Как видно, роль В.М. Чернова в партийных делах отнюдь не была однозначна, как то предстает из отечественной историографии. Так, если в теоретических работах он выступал как разработчик новых форм демократии, то на практике он препятствовал демократическому избранию руководства партии. В.М. Чернов отстаивал сохранение ЗД как органа руководства заграничными эсерами, ими не контролируемого, а значит не имевшего обратной связи с руководимыми им партийными массами. Это противоречило всем демократическим принципам партии, провозгла- шаемым со времен I съезда в 1905 году. В политической деятельности В.М. Чернова все больше проявлялись авторитарные черты. Для «единения» партии ему стало необходимо положение «вождя», функциями же, демократически полученными посредством выборов, он больше не довольствовался.
Все это по-новому раскрывает роль партии социалистов-революционеров и ее лидера В.М. Чернова как альтернативы большевикам. Партия и ее лидеры не являлись носителями лишь только демократической традиции. В вопросах внутреннего устройства партии эсеры не смогли исключить все недемократическое. И даже более того, обе формы – и демократическая, и недемократическая – развивались в партии, они не находились в стагнации. Это свидетельствует лишь об одном: предположения о преобладании в партии демократии или не демократии не допустимы, так как в партии присутствовали обе формы, а проистекавшие процессы были неразрывны и носили весьма сложный и неоднозначный характер.
Список литературы Партия социалистов-революционеров в эмиграции в 1920-х годах. Пути возрождения организации: централизм или демократизм
- В.М. Чернов. Чрезвычайно опасно [после 1924 г.]//Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 14.
- Гинев, В. Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества/В. Н. Гинев. -Л.: Наука, 1983. -336 с.
- Городницкий, Р. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901-1911 годах/Р. А. Городницкий. -М.: РОССПЭН, 1998. -239 с.
- Гусев, К. В. В.М. Чернов. Штрихи к политическому портрету/К. В. Гусев. -М.: РОССПЭН, 1999. -207 с.
- Гусев, К. В. От соглашательства к контрреволюции (очерки истории политического банкротства и гибели партии социалистов-революционеров)/К. В. Гусев, Х. А. Ерицян. -М.: Мысль, 1968. -320 с.
- Гусев, К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции/К. В. Гусев. -М.: Мысль, 1975. -383 с.
- Демократический социализм//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 23.
- Записка об отношении членов заграничной делегации партии социалистов-революционеров к объединенному съезду трех групп социалистов-революционеров из «Современных Записок», «Дней» и «Воли России» [б. д.]//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 21.
- Записка о причинах расхождения и распада заграничной делегации партии социалистов-революционеров и протест некоторых членов этой организации [1929 г.]//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 22.
- Инструкция о порядке выборов делегатов на съезд заграничной организации партии социалистов-революционеров в сентябре 1923 г.//РГАСПИ. -Ф. 673. -Оп. 1-ПСР. -Д. 47 (ч. II). -Док. 956.
- Коновалова, О. В. В.М. Чернов о путях развития России/О. В. Коновалова. -М.: РОССПЭН, 2009. -383 с.
- Леонов, М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 годах/М. И. Леонов. -М.: РОССПЭН, 1997. -512 с.
- Морозов, К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 годах/К. Н. Морозов. -М.: РОССПЭН, 1998. -624 с.
- Морозов, К. Н. Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние (1922-1926): Этика и тактика противоборства./К. Н. Морозов. -М.: РОССПЭН, 2005. -736 с.
- Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы: 1900-1922 гг.: в 3 т./сост., авт. предисловие, введение, комментарии Н. Д. Ерофеева. -М.: РОССПЭН, 1996-2000. -Т. 1: 1900-1907 гг. -М., 1996; -Т. 3, ч. 1: Февраль -октябрь 1917 г.; Ч. 2: Октябрь 1917 г. -1925 г. -М., 2000.
- Письма, обращения Центрального комитета и Заграничной делегации ПСР к членам партии//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 134.
- Протокол беседы В.В. Сухомлина с В.М.Черновым в присутствии С.П. Постникова в Праге 4-го февраля 1927 г.//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 156.
- Протоколы заседаний согласительной комиссии Пражской организации П.С.-Р. [23 сентября -16 ноября 1927 г.]//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 149.
- Резолюции X Совета ПСР//Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы: 1900-1922 гг. В 3 т. Т. 3, ч. 2. -М.: РОССПЭН, 2000.
- Резолюция Лос-Анжелоской группы партии социалистов-революционеров. [1925-1927 гг.]//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 159.
- Резолюция объединенного Собрания Пражской группы и группы содействия П.С.-Р. по поводу работ партийной делегации на Марсельском конгрессе Социалистического Интернационала. [7 ноября 1925 г., Прага]//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 2. -Д. 157.
- Спирина, М. В. Крах мелкобуржуазной концепции социализма эсеров/М. В. Спирина. -М.: Наука, 1987. -205 с.
- Съезд заграничных организаций П.С.-Р. в Праге, 16-24 ноября 1923 г. Протоколы заседаний//РГАСПИ. -Ф. 673. -Оп. 1-ПСР. -Д. 47 (ч. II). -Док. 955.
- Устав заграничной организации Партии Социалистов-Революционеров//ГА РФ. -Ф. 5847. -Оп. 1. -Д. 111.
- Федоренко, А. А. Политическая концепция В.М. Чернова/А. А. Федоренко. -М.: Изд-во МПУ «СигналЪ», 1999. -156 с.
- Черномордик, С. Эсеры (партия социалистов-революционеров)/С. Черномордик. -Харьков: Пролетарий, 1930. -354 с.
- Янсен, М. Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-революционеров: пер. с англ./М. Янсен. -М.: Возвращение, 1993. -271 с.