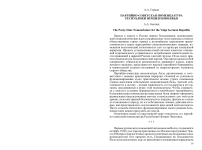Партийно-советская номенклатура Республики Немцев Поволжья
Автор: Герман А.А.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 67, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой обобщенное изложение содержания и итогов проведенного автором научного исследования партийно-советской номенклатуры АССР немцев Поволжья. В ходе исследования были изучены происхождение, образование, мировоззрение, личностные качества, деятельность значительного числа партийно-советских функционеров немецкой автономии. Исследование опиралось на обширный массив документальных источников. В статье впервые описаны сформированные автором интегрированные образы трех типов правившей в АССР немцев Поволжья номенклатуры. Первый тип – выходцы из интеллигенции, как правило, с дореволюционным опытом социал-демократической работы, сторонники классического марксизма, хоть и заразившиеся им, но способные более или менее адекватно оценивать ситуацию в обществе, настроения людей, степень их возможностей реализовывать коммунистические установки на практике. Второй тип – выходцы из «низов», втянувшиеся в революционную практику в ходе Гражданской войны, знавшие и догматически воспринимавшие лишь азы марксизма, фанатично готовые на все во имя «светлого будущего», не задумываясь о последствиях своих действий. Третий тип – молодые кадры, сформированные уже советской эпохой к концу 1930-х гг., воспринявшие идеи сталинского социализма как религию, лично преданные вождю. Прослеживая судьбу всех типов номенклатуры, автор приходит к выводу, что первый тип преобладал до конца 1920-х гг. В годы «Великого перелома» его оттеснили от власти кадры второго типа. Почти вся номенклатура первого и второго типов была уничтожена в 1937–1938 гг. Им на смену пришла молодая номенклатура третьего типа. Ее административное «уничтожение» произошло в период депортации немцев из Поволжья. В дальнейшем она разделили судьбу своего народа.
Российские немцы, Республика Немцев Поволжья, Гражданская война, новая экономическая политика, коллективизация, партия большевиков, партийная бюрократия, сталинский режим, сталинский террор.
Короткий адрес: https://sciup.org/149132207
IDR: 149132207
Текст научной статьи Партийно-советская номенклатура Республики Немцев Поволжья
Приход к власти в России партии большевиков, исповедовавшей социалистические идеи и радикальные пути перехода к новому общественному строю, привел к величайшему нарушению преемственности в плане перестройки социополитического порядка, изменения политической легитимности элит и структуры социальной иерархии. Процесс установления новой системы властных отношений сопровождался устранением и истреблением значительной части правившей в царской России элитной группы. Ей на смену пришла номенклатура большевистской партии. Она представляла собой совершенно уникальную разновидность правящего класса, ядром которого являлись представители высшей партийной бюрократии, в значительной степени состоявшей из непролетарских элементов старого общества.
Партийно-советская номенклатура была организована в соответствии с новыми принципами иерархии. Основой ее успешного функционирования стало практически полная утрата основными слоями населения собственной экономической базы, частной собственности, а потому - полная зависимость от государства и его органов, находившихся в руках этой номенклатуры. Чтобы удержаться у власти в условиях перманентного утопического эксперимента, большевистская номенклатура вынуждена была широко применять радикальные насильственные методы и использовать для этой цели армию, силы внутренней безопасности и порядка, причем не только по отношению к народу, но и к собственным членам, действия которых, как представлялось, могли нанести вред новой системе власти. Иного способа обеспечить функционирование своего режима большевистские вожди придумать не смогли.
Отмеченное выше в существенной мере относилось и к партийно-советской номенклатуре Республики Немцев Поволжья.
* * *
Первые руководители немецкой автономии на Волге, созданной в октябре 1918 г. (не считая присланных из Москвы иностранцев Эрнста Рейтера и Карла Петина) прошли типичный для большевистских руководителей того времени путь. Подавляющее их большинство было интеллигентами, еще до революции увлекшимися марксизмом и верившими в возможность реализации его идей в России. Наиболее типичные фигуры - Густав Клингер, Адам Эмих, Александр Моор.
Г. Клингер получил экономическое образование. До Февральской революции являлся членом правления такой крупной акционерной кампании как «Коломенский машиностроительный завод» в Санкт-Петербурге, затем товарищества «Грингоф» в Саратове. В 1917 г. он - один из создателей и активных деятелей Союза немцев-социалистов Поволжья, член пробольшевистского Саратовского комитета этой организации1.
Школьными учителями были А. Моор и А. Эмих. А. Моор прославился тем, что еще в 1913 г., будучи делегатом 1-го Всероссийского съезда по вопросам просвещения в Санкт-Петербурге от Но-воузенского уезда Самарской губернии, выступил со смелой речью, затронув вопросы демократизации школьного образования и обучения детей немцев-колонистов, за что был уволен с запретом в дальнейшем занимать учительские должности. Революционной деятельностью начал заниматься в годы войны на Кавказском фронте. В 1917-1918 гг. занимал четкую большевистскую позицию2.
Особо следует сказать об А. Эмихе. Он уже до революции был хорошо известен в Поволжье не только как учитель, но и как писатель. В 1917 г. стал издателем и редактором газеты “Der Kolonist” («Колонист») в Екатериненштадте (ныне - г. Маркс Саратовской области). Один из основателей и руководителей Союза немцев-социалистов Поволжья, член его ЦК. В отличие от Г. Клингера и А. Моора занимал более умеренные позиции, активно выступал за возрождение самоуправления и культуры поволжских немцев. Его позиция позднее была расценена как меньшевистская и националистическая3.
Г. Клингер, А. Моор и А. Эмих стали членами Поволжского комиссариата по немецким делам, непосредственно участвовали в подготовке и создании Области немцев Поволжья в 1918 г.4
Вместе с большевиками-интеллигентами, число которых было ограниченным, к руководству областью постепенно приходили руководители «пролетарского» происхождения или «из бедняков». Их отличали малограмотность, весьма узкий кругозор, которые с лихвой компенсировался агрессивной напористостью и беспредельным большевистским фанатизмом, готовностью слепо выполнять все распоряжения центрального большевистского руководства, не задумываясь над их последствиями, неприязнь к «образованным». На первых порах эти две группы функционеров работали вместе, но по мере углубления противоречий политики «военного коммунизма» между ними все более назревал раскол, прежде всего в отношении к мероприятиям, проводившимся центральной властью.
В 1919-1920 гг. Область немцев Поволжья испытала жесточайший «продовольственный нажим», в ходе которого безжалостно изымалось практически все продовольствие5. По отношению к этим 40
мерам центра и разделилось мнение членов областного руководства. Четко обозначились «умеренные» и «радикалы».
Позицию «умеренных» характеризует приводимый ниже фрагмент выступления председателя облисполкома Адама Рейхерта 2 декабря 1919 г. на областном межведомственном совещании: «Крестьяне не могут дать тот наряд, который на них возложен облпрод-коллегией и Центром..., на месте уже брать нечего. Мы должны обсудить здесь этот вопрос всесторонне и должны сказать свое слово. Мы будем работать изо всех сил, будем работать честно, справедливо, как коммунисты, и дадим голодающему Центру все, что только сможем, сделаем все, что в наших силах. Там же, где мы бессильны помочь, мы скажем Центру ясно и определенно, что этого выполнить не в состоянии»6. А. Рейхерта на совещании и позднее активно поддержали Адам Эмих, Виктор Штромбергер, Генрих Кениг, Эдвард Гросс и другие. Все они - «из интеллигентов».
Оппоненты обвиняли их в «защите кулацких интересов», в «гнилом либерализме», требовали «приложить все усилия для выполнения продразверстки». Кто же оказался в рядах «радикалов»? Это - руководитель областной организации РКП(б) Петр Чагин, председатель областной ЧК Александр Дотц, военком области Генрих Ша-уфлер, облпродкомиссар Василий Каль, и другие «пролетарские» руководители7.
Чем больше усложнялась ситуация в деревне, тем глубже становились разногласия в руководстве Области немцев Поволжья, они перерастают в открытый раскол, парализующий деятельность областного руководства.
Массовые аресты партийных работников не могли не вызвать жалоб в ЦК РКП(б). Его действия по разрешению конфликта тоже заслуживают внимания. Арестованные были выпущены на свободу, а 4 октября 1920 г. Оргбюро ЦК принимает решение «о плановой переброске партийных работников области» в другие регионы. Под эту «переброску» попали как «умеренные», так и «радикалы». Взамен них в область на руководящие посты были присланы «добросовестные партийцы» русской, польской, украинской национально- стей, которые еще ревностней, чем местные «радикалы», продолжили «выколачивать» продовольствие из немецких крестьян9.
Политика «военного коммунизма» отрезвляюще подействовала на некоторых функционеров, прежде всего тех, кто и раньше критически относился к некоторым программным установкам большевиков. В частности, после выхода на свободу, осенью 1920 г., А. Эмих вышел из партии и отошел от политической деятельности. Однако большинство «интеллигентов» осталось в партии и продолжало участвовать в выполнении мероприятий власти, хотя очень часто подвергали те или иные решения центральных властей критике. Как могли, они пытались сгладить негативные воздействия решений центральных органов на местное население. В частности, большую полезную работу по преодолению последствий голода 1921-1922 гг. провел в Области немцев Поволжья А. Моор, занимавший в те годы пост председателя облисполкома10.
Функционерам-интеллигентам благоприятствовала новая экономическая политика, в условиях которой находилось место для самостоятельности и творчества. Именно по этой причине в 1920-х гг. они занимали практически все ведущие посты в партийном и советском руководстве Республики Немцев Поволжья (была создана на основе автономной области в 1924 г.)11. Благодаря, не в последнюю очередь, их усилиям, шел быстрый процесс возрождения экономики, повышался уровень жизни населения, АССР НП проводила достаточно самостоятельную политику экономического и культурного сотрудничества с Германией и некоторыми другими зарубежными странами.
В то же время марксистские догмы и партийные установки довлели над руководителями АССР НП. Подчиняясь им, Иоганн Шваб, Вильгельм Курц, Генрих Кениг, Яков Суппес, Иоганн Шенфельд и многие другие тем самым приближали конец нэпа, а заодно и конец своего властвования. В то время в затылок им уже дышали и готовили серьезную конкуренцию функционеры «из пролетариев». Свои самые уязвимые качества - безграмотность и низкую общую культуру - они «подправили», закончив всевозможные курсы и совпартшколы. Это придало им еще большей уверенности в себе. Почти десять лет они, как им казалось, незаслуженно находились в тени «интеллигентов», а потому испытывали к ним не только старую неприязнь, но и ненависть, жаждали их падения и их крови. Последнее отмечено не случайно.
Вышедшие «из низов» функционеры еще в годы Гражданской войны приобрели богатый опыт расправ с неугодными, будь то открытый враг большевизма или крестьянин, не сдающий зерно по продразверстке, либо товарищ по партии, вставший на путь «оппортунизма». Их позицию как нельзя точнее выразил еще в 1919 г. на II облпартконференции П. Чагин, бывший тогда руководителем парторганизации области немцев Поволжья: «... Несмотря ни на 42
что, по горам мертвых тел, через кровь, слезы и мучения, по горам дымящихся развалин мы идем к новому миру трудового братства»12.
При анализе действий и поступков этих функционеров все больше убеждаешься, что в 1930-е гг. для них важней всего были уже не интересы эфемерного «трудового братства», а личные карьерные соображения.
Развертывание с конца 1920-х гг. в ВКП(б) и во всей стране борьбы с «правыми» стало удобным поводом для постепенного смещения умеренных лидеров политической элиты АССР НП со всех высоких постов. С началом «развернутого наступления социализма по всему фронту» наступило время вторых стать первыми. К функционерам этой волны мы относим Вильгельма Вегнера, Христиана Горста, Александра Глейма, Евгения Фрешера и многих других.
В составе упомянутого выше ряда коммунистических функционеров особым догматизмом, жестокостью и непримиримостью отличался Адам Вельш. Как заведующий отделом областного комитета партии по работе в деревне, он непосредственно организовывал и проводил коллективизацию в селах Немреспублики. По его инициативе, при сильном давлении на делегатов, 1-й съезд колхозников принял ряд радикальных решений, которые при их реализации в последующие месяцы привели к мощному социальному взрыву в десятках немецких сел (конец декабря 1929 - январь 1930 гг.), вплоть до вооруженных восстаний и свержения советской власти. Так, в с. Мариенфельд почти на месяц была свергнута советская власть и осуществлялось крестьянское самоуправление, существовала самооборона, сумевшая отразить несколько атак подразделений НКВД РСФСР. В конце января это восстание, как и все другие выступления, были подавлены13.
Основными причинами социального взрыва стало сопротивление немецких крестьян попытке их коммунизации (создания на основании решения съезда колхозников колхозов в форме трудовых коммун), то есть отъему всего их имущества, включая мелкий скот, птицу, домашнюю утварь, а также жесткое и повсеместное закрытие церквей и репрессии против священнослужителей (съезд колхозников постановил, немного немало, религию и церковь в Немреспу-блике «ликвидировать»).
После всех происшедших событий обком ВКП(б) вынужден был осудить решения съезда колхозников, назвав их «левым загибом»14.
В 1930 г. в самый разгар коллективизации и раскулачивания А. Вельш написал и отправил в ЦК ВКП(б) пространный донос на «старых» руководителей АССР НП - И. Шваба, Г. Кенига, В. Курца и других. В доносе, собрав в кучу многочисленные факты и примеры за несколько лет, он пытался обосновать свой вывод о том, что «старые кадры» давно уже встали на антипартийный и антисоветский путь, развели «семейственность». Для создания видимости объективности, А. Вельш в заключительной части доноса говорил и о некоторых собственных ошибках, допущенных в конце коллективизации, однако они выглядели невинной шалостью по сравнению с тяжелыми политическими обвинениями в адрес своих коллег по работе15.
Донос был достаточно абсурден. В Москве это понимали, однако частично использовали его для «обновления» кадров в АССР НП. В течение 1929-1930 гг. постепенно «старые» кадры были вытеснены из руководства АССР НП. Они вроде как бы пошли на повышение - в Нижневолжский крайком ВКП(б) или даже в Москву, - но оказались там далеко не на первых ролях.
Самого А. Вельша тоже не оставили в Немреспублике и отправили на два года в Москву, учиться на очередных курсах марксизма-ленинизма. После их окончания в 1932 г. он вернулся в АССР НП и быстро сделал карьеру. С 1935 г. - он уже одновременно председатель ЦИК и Совнаркома АССР НП, с февраля 1936 г. - первый секретарь обкома ВКП(б), то есть высшее лицо партноменклатуры в Немреспублике. Здесь он смог уже развернуться в полную силу. Именно при его активной деятельности в партийной организации АССР НП и в среде ее руководства создалась смрадная атмосфера взаимной подозрительности, недоверия и страха друг перед другом. Всюду мерещились враги. Считалось доблестью «разоблачить» работавшего рядом с тобой коллегу. Широкое распространение получила практика взаимных доносов друг на друга. Пример показывал А. Вельш. В 1936 г. он направил в различные инстанции за пределы Немреспублики свыше 30 писем, информируя о «пробравшихся» туда «врагах народа» из АССР НП.
Приведем одно из таких писем:
«10.08.1936 г. ВМКВКП(б)
Немобком ВКП(б) считает необходимым сообщить о члене ВКП(б) Пауль А.Г., которая работает в настоящее время в редакции газеты «За коммунистическое просвещение». Будучи директором Немпединститута, она ездила в 1932 г. в Германию, как бы в научную командировку, а привезла оттуда контрреволюционную литературу и фашистов-студентов и преподавателей, которые вскоре были арестованы, а Пауль выбыла на работу в Москву.
Секретарь Немобкома ВКП(б) А. Вельш»16.
Указанная в письме Анна Пауль, жена одного из первых секретарей обкома ВКП(б) того времени X. Горста, сама была функционером того же типа, что и А. Вельш. Являясь в 1930 г. директором Немецкого педагогического института, она «обнаружила», «разоблачила» и разгромила «контрреволюционную группу» профессоров, в число которых попали такие известные и замечательные ученые как лингвист Георг Дингес, педагог Анатолий Сынопалов, археолог
Пауль Рау и другие17.
Сегодня нам не дано узнать, понимали ли в то время люди типа Адама Вельша и Анны Пауль, что неся другим горе и смерть, они тем самым приближают и свой конец. Конец карьеры и жизни А. Вельша пришелся на 1937 г. Но наступил он не сразу. В феврале его сняли с должности первого секретаря за проявления «национализма», суть которого состояла в том, что А. Вельш пытался вывести парторганизацию Немреспублики из подчинения соседнего Саратовского обкома ВКП(б) и подчинить ее непосредственно ЦК ВКП(б)18. Председателем ЦИК АССР НП А. Вельшу удалось побыть всего лишь с февраля по август.
Изложенные выше факты позволяют заключить, что неотъемлемой составной частью «строительства социализма» в АССР немцев Поволжья стало развертывание массовых репрессий. Они были направлены не только против «классово чуждых элементов», но и против самих радикальных партийных и советских функционеров «из низов», которые фанатично и преданно выполняли на местах все указания и установки центра, претворяя в жизнь идеи примитивного сталинского казарменного социализма. Руководителей АССР НП и ее кантонов высшее партийное и советское СССР постоянно обвиняло в «потере бдительности», «классовой слепоте» и т. п. На всех уровнях - республиканском, кантональном, местном - шли непрерывные перетасовки кадров. С 1936 г. вместо старых обвинений функционерам все чаще предъявляются обвинения в измене делу социализма. Вместо перемещений с одной должности на другую следуют аресты и жестокие репрессии.
В августе-октябре 1937 г. по всей Немреспублике проводились массовые аресты руководящих партийных, советских и хозяйственных работников АССР НП. Арестованы были все члены бюро обкома партии (за исключением В. Далингера, который как работник НКВД сам организовывал и проводил эти аресты), председатель совнаркома Г. Люфт и почти весь состав правительства, председатель ЦИК АССР НП А. Вельш и большинство членов ЦИКа, прокурор АССР НП А. Скудра, многие директора заводов, фабрик, председатели колхозов, директора совхозов и МТС. Аресты дезорганизовали всю жизнедеятельность Немреспублики и ее партийной организации. Всего в 1937-1938 гг. было арестовано свыше 6,7 тыс. человек, из них расстреляно около 3,6 тыс.19
Немногие, кто уцелел и занял руководящие посты в 1937 г. (вроде уже упоминавшегося В. Далингера, ставшего председателем Совнаркома АССР НП) были сметены второй волной массовых арестов 1938 г. В 1936 - 1938 гг. были репрессированы и функционеры-«интеллигенты», работавшие в это время уже за пределами АССР немцев Поволжья.
К концу 1938 г. практически вся большевистская партийно-советская номенклатура АССР немцев Поволжья, зародившаяся в годы революции и Гражданской войны, оказалась изъятой из общественно-политической жизни АССР немцев Поволжья и тех регионов СССР, где она функционировала. Значительная ее часть была уничтожена, другая - меньшая - на долгие годы осела в лагерях. Тотальные аресты привели к вакууму власти в нижних звеньях партийно-советской номенклатуры, его стали устранять, «смело выдвигая» на освободившиеся должности коммунистов и комсомольцев из низов. Так рождалась новая номенклатура.
Отличительной особенностью основной части выдвиженцев была относительная молодость (как правило, все они родились уже в XX в.), малограмотность и беспредельная преданность режиму (она еще усиливалась благодарностью за «оказанное доверие»), В то же время в их среде были кадры, получившие образование уже при советской власти, то есть, представители новой советской интеллигенции со всеми присущими ей чертами.
Всем этим людям уже не пришлось пачкать в крови руки. Главной сферой их деятельности стало все же созидание. Функционерами новой волны в АССР немцев Поволжья были, например: Конрад Гофман - председатель Верховного Совета АССР НП, человек без школьного образования, железнодорожник; Александр Гекман - председатель Совнаркома, 1908 г. рождения, в 1935 г. получил высшее образование (инженер); Давид Корбмахер - третий секретарь обкома ВКП(б), 1904 г. рождения, образование среднее20.
Эти люди не успели развернуться и показать свои способности и возможности. Осенью 1941 г. они на общих основаниях вместе со всеми немцами Поволжья были депортированы в Сибирь и Казахстан, а чуть позднее, с начала 1942 г., как и большинство советских немцев в возрасте от 15 до 65 лет, были мобилизованы в «Трудовую армию» где часть их была репрессирована по сфабрикованным делам, либо умерла от истощения и голода21.
Как только эти люди разделили участь своих соплеменников, их идеологические убеждения и вера в правильность политики сталинского режима стала быстро выветриваться. Практически все высшие руководители АССР НП последней волны в годы войны проходили по сводкам НКВД как допустившие антисоветские высказывания и «демонстрации». Последнее, в частности, относится к Д. Корбма-херу и А. Гекману. Они были исключены из партии за то, что перед отъездом в Сибирь устроили на местном рынке в г. Энгельсе «демонстративную распродажу» своего имущества. Г. Гофман, уже находясь в «трудовой армии» в Краслаге, оценивал выселение немцев из Поволжья и ликвидацию АССР немцев Поволжья как «ошибку»22.
Некоторые из бывших партийно-советских функционеров шли еще дальше, заявляя, например, что в 1921 г. восставшие в области немцев Поволжья крестьяне «были не бандиты, а национальные герои»23. Подобные разговоры и поступки бывших номенклатурных работников ликвидированной немецкой автономии стали одним из 46
оснований для применения к ним репрессий.
Позднее именно эти уцелевшие функционеры, вместе с теми из «старых кадров», кто не был расстрелян в 1930-е гг. и остался в живых после 20 и более лет отсидки в лагерях (например, А. Кельн, арестованный в 1935 г., накануне «большого террора», и потому уцелевший) - составили ядро первых самодеятельных делегаций, выезжавших 1965 г. в Москву, встречавшихся с представителями руководства СССР (в частности, с Председателем Президиума Верховного Совета СССР А.И. Микояном) и ходатайствовавших о восстановление немецкой автономии на Волге. Поездки не принесли положительного результата. Попытки же этих групп продолжить свою борьбу были пресечены мерами партийного и государственного воздействия на активистов24.
* * *
Таким образом, с определенной долей условности всю партийносоветскую номенклатуру АССР немцев Поволжья, функционировавшую в период существования автономии (1918 - 1941 гг.), можно разделить на три типа. Обозначим их так: 1) «Старые кадры» из интеллигенции, 2) «Старые кадры» из «низов», 3) «Новые кадры».
Такое происхождение и деление в принципе было характерно для всей большевистской партийно-советской номенклатуры. Первый и второй типы номенклатуры различались своим происхождением (интеллигентским и «рабоче-крестьянским») и, как следствие, - двумя отличными друг от друга образами мышления и стилями политического поведения. Если функционеры первого типа все же пытались каким-то образом учитывать национальные интересы своего народа, проявляли по отношению к нему некоторый гуманизм, то кадры из «низов», как правило, были фанатично преданы режиму, во имя «светлого будущего» самым жестоким образом подавляли свой народ, слепо проводя в жизнь все установки «сверху».
Центральной власти некоторое время было выгодно иметь внутри партийно-советской номенклатуры две соперничавшие группировки. В зависимости от характера решавшихся задач, она инициировала приход к власти либо одной, либо другой группировки. Как правило «кадры из низов» реализовывали утопические идеи большевизма: политику военного коммунизма, коллективизацию и подобные мероприятия. Функционеры из интеллигенции в большинстве случаев ликвидировали катастрофические последствия большевистских авантюр (наиболее ярко это проявилось в первые годы нэпа).
В 1937-1938 гг. Сталин и его ближайшее окружение, проведя кардинальную чистку своего «аппарата», освободились как от номенклатуры из интеллигенции, так и «из низов». На смену им пришли молодые выдвиженцы, основу мышления и действия которых со- ставлял уже не ленинский большевизм, а сталинизм - его наиболее примитивная и антигуманная интерпретация. Для быстро взлетевших наверх «новых кадров» были характерны беспредельные благодарность и преданность своему вождю. Они «верой и правдой» проводили в Немреспублике политику ВКП(б), однако им помешала война, сделавшая проект «немецкой социалистической республики на Волге» ненужным, а следовательно - бесполезными стали и кадры, работавшие на него.
На примере судьбы партийно-советской номенклатуры Республики Немцев Поволжья довольно четко просматривается цинизм высшего руководства партии и государства, для которого нижестоящая партийно-государственная номенклатура, в том числе и национальная, представлялась лишь механическим инструментом для реализации своих целей. Как только инструмент устаревал или становился ненужным, с ним быстро и безжалостно расставались.
Список литературы Партийно-советская номенклатура Республики Немцев Поволжья
- German, A.A. Iz istorii krestyyanskogo soprotivleniya kollektivizatsii v Saratovskom Povolzhye [From the History of Peasant Resistance to Collectivization in the Volga Region of Saratov.] Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya, 2017, vol. 17, no. 3, pp. 407–416. (In Russian).
- German, A.A. Istoricheskiy fenomen Respubliki nemtsev Povolzhyya [Historical Phenomenon of the Volga German Republic.] Rossiyskaya istoriya, 2012, no 4, pp. 27–46. (In Russian).
- German, A.A. Portret sovetskogo nemtsa-trudarmeytsa vremen Velikoy Otechestvennoy voyny [Portrait of a Soviet German-Labor Army Serviceman of the Great Patriotic War Time.] Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya, 2020, vol. 20, no. 2. pp. 172–181. (In Russian).
- Bauer, V.A. and Ilarionova, T.S. Rossiyskiye nemtsy: Pravo na nadezhdu: K istorii natsionalnogo dvizheniya naroda [Russian Germans: The Right to Hope: Towards the History of the National Movement of a People.]. Moscow, 1995, 457 p. (In Russian).
- German, A.A. Bolshevistskaya vlast i Nemetskaya avtonomiya na Volge (1918 – 1941) [Bolshevik Power and German Autonomy on the Volga River (1918 – 1941).]. Saratov, 2004, 520 p. (In Russian).
- German A.A. Nemetskaya avtonomiya na Volge, 1918 – 1941 [German Autonomy on the Volga River, 1918 – 1941.]. Part 2. Saratov, 1994, 416 p. (In Russian).
- German, A.A. Nemetskaya avtonomiya na Volge, 1918 – 1941 [German Autonomy on the Volga River, 1918 – 1941]. 2nd ed. Moscow, 2007, 576 p. (In Russian).