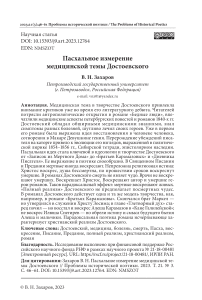Пасхальное измерение медицинской темы Достоевского
Автор: Захаров В.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Медицинская тема в творчестве Достоевского привлекла внимание критиков уже во время его литературного дебюта. Читателей потрясли антропологические открытия в романе «Бедные люди», впечатлили медицинские аспекты петербургских повестей и романов 1840-х гг. Достоевский обладал обширными медицинскими знаниями, знал симптомы разных болезней, шутливо лечил своих героев. Уже в первом его романе была выражена идея восстановления в человеке человека, сотворения в Макаре Девушкине гения. Перерождение убеждений писателя на каторге привело к эволюции его взглядов, выраженной в политической лирике 1854-1856 гг., Сибирской тетради, эпистолярном наследии. Пасхальная идея стала ключевой в идеологии и творчестве Достоевского от «Записок из Мертвого Дома» до «Братьев Карамазовых» и «Дневника Писателя». Ее выражение в поэтике своеобразно. В Священном Писании и Предании мертвые иногда воскресают. Непреложна религиозная истина: Христос воскрес, душа бессмертна, по прошествии сроков воскреснут умершие. В романах Достоевского смерть не являет чудо. Врачи не воскрешают умерших. Воскрешает Христос. Воскрешают автор и умершие герои романов. Таков парадоксальный эффект: мертвые воскрешают живых. «Полный реализм» Достоевского не предполагает посмертных чудес. В романах Достоевского действует одна и та же модель творчества, как, например, в романе «Братьях Карамазовы». Скончался брат Маркел - но утвердился в служении Христу Зосима; в главе «Тлетворный дух» старец почил - но восстал и воскрес Алеша Карамазов в «Кане Галилейской»; не воскрес Илюша Снегирев - но обрели истину и смысл будущего бытия Алеша и мальчики. Парадоксальная поэтика романа исчерпывающе характеризует христианский реализм Достоевского.
Достоевский, медицина, болезнь, смерть, пасха, воскресение, писание, предание, полный реализм, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/147241445
IDR: 147241445 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12764
Текст научной статьи Пасхальное измерение медицинской темы Достоевского
И дея воскресения из мертвых была высказана Достоевским сразу после выхода из каторги в стихотворении «На Европейские события в 1854 году»:
«Мы верою из мертвых воскресали…»1.
«Мы» — это русские, «мы» — это Россия в годы исторических испытаний и Крымской войны.
О том, чем был для него выход из каторги, Достоевский писал брату Андрею из Семипалатинска 6 ноября 1854 г.:
«…выход из каторги представлялся мне прежде, как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь» ( Д18 ; т. 151: 127).
На каторге Достоевский был обуреваем «страстным желанием воскресения, обновления, новой жизни» ( Д18 ; т. 3: 159). Казалось, желание исполнилось в финале «Записок из Мертвого Дома»:
«Да с Богом! Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых… Экая славная минута!» ( Д18 ; т. 3: 169).
В художественном тексте писатель ироничен, но судьба самого автора патетична: «В Сибири Достоевский обрел бесценный опыт: был заживо погребен в Мертвом Доме, узнал народ, проникся Образом и Словом Христа, принял Благую Весть, воскрес из мертвых, стал новым человеком, сказал новое слово миру в критике, публицистике, творчестве, открыл читателям тайну человека, тайну истории, тайну России» [Захаров, 2021: 19].
Пасхальная идея стала ключевой в творчестве Достоевского от «Записок из Мертвого Дома», «Униженных и Оскорбленных», «Преступления и Наказания» до «Братьев Карамазовых» и «Дневника Писателя». В значительной мере она представлена в исследованиях [[Захаров, 1994a, 1994 b], [Есаулов, 1995, 1998], [Шульц: 5–14], [Есаулов, 2004], [Борисова, 2020], [Есаулов, Тарасов, Сыти на], [Федорова], [Захаров, 2022a], [Захаров, 2022а,
2022b], [Борисова, 2022, 2023], [Борисова, Бучнева], [Борисова, Шаулов] и др.
Пасхальна парадоксальная поэтика христианского реализма Достоевского.
Христианский реализм — это реализм, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова (см.: [Захаров, 2001: 16]).
Какое значение эта идея имела в жизни и смерти героев Достоевского?
В Священном Писании и Предании иногда случается чудо: мертвые воскресают. Непреложна религиозная истина : Христос воскрес, душа бессмертна, по прошествии сроков воскреснут умершие.
В романах Достоевского смерть не являет чудо. Медицина бессильна. Врачи не воскрешают умерших. Чуда не случается. Чтобы явить чудо в романе, герой должен умереть. Он умирает, но не воскресает. Романный мир автора существует в эмпирическом хронотопе и обусловлен «законами природы». «Полный реализм» Достоевского не предполагает посмертных чудес.
Пасхальна идея «Записок из Мертвого Дома»: умирают замученные в Мертвом Доме и умершие в госпитале узники острога, но воскресают Александр Петрович Горянчиков, повествователь и герой «Записок», и их автор [Захаров, 2022a].
Нелли в «Униженных и Оскорбленных» не верит, что ее дедушка умер. Она видит его и Азорку во сне и наяву, считает, что тот по-прежнему ходит и просит милостыню. Она боится заснуть, «потому что дедушку увидит» ( Д18 ; т. 4: 265). Иван Петрович пытается разуверить ее, что дедушка жив.
В канун Светлого Воскресения Нелли пытается помирить Ихменевых. Она напоминает им:
«Послезавтра Светлое Воскресенье, Христос воскрес, все цалуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются… Я ведь знаю…» ( Д18 ; т. 4: 219).
Ей это удается, но через две недели после цветочного праздника Нелли умирает, обречен и Иван Петрович.
Алеша Валковский грезит о том, что могло бы быть, если бы его Наташа «отчего-нибудь заболела и умерла»:
«И вот мало-помалу я стал воображать себе, что пришел будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вообразил я себе как бы я цаловал эту могилу, звал бы тебя из нее, хоть на одну минуту, и молил бы у Бога чуда, чтоб ты хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною; представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к себе, цаловал и кажется умер бы тут от блаженства, что хоть одно мгновение мог еще раз, как прежде, обнять тебя. И когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось: вот я на одно мгновение буду просить тебя у Бога, а между тем была же ты со мною шесть месяцев и в эти шесть месяцев сколько раз мы поссорились, сколько дней мы не говорили друг с другом! Целые дни мы были в ссоре и пренебрегали нашим счастьем, а тут только на одну минуту вызываю тебя из могилы и за эту минуту готов заплатить всею жизнью!..» ( Д18 ; т. 4: 162–163).
Завершается этот воображаемый пассаж отчасти комическим снижением:
«Как вообразил я это все, я не мог выдержать и бросился к тебе скорей, прибежал сюда, а ты уж ждала меня и, когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом деле лишаюсь тебя. Наташа!» ( Д18 ; т. 4: 163).
Воображение творит всё.
Встретив квартального надзирателя Никодима Фомича, Раскольников сообщил ему о смерти Мармеладова:
«Умер, — отвечал Раскольников. — Был доктор, был священник, всё в порядке. Не беспокойте очень бедную женщину, она и без того в чахотке. Ободрите ее, если чем можете… Ведь вы добрый отвечал человек, я знаю… — прибавил он с усмешкой, смотря ему прямо в глаза» ( Д18 ; т. 7: 131).
Так выглядит смерть с эмпирической и административной точки зрения.
Таковы безжалостные «законы природы»:
«Как одолеть их, когда не победил их теперь даже Тот, Который побеждал и природу при жизни Своей, Которому она подчинялась, Который воскликнул: " Талифа куми ", — и девица встала, "Лазарь, гряди вон", — и вышел умерший?» ( Д18 ; т. 8: 306).
В поэме «Великий Инквизитор» Он воскресил умершее дитя:
«Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам Его. Он глядит с состраданием и уста Его тихо и еще раз произносят: "Талифа куми" — "и восста девица"» ( Д18 ; т. 13: 206).
Воскресение Лазаря — ключевой эпизод в романе «Преступление и Наказание». Заикаясь, Раскольников утверждает, что верует в Новый Иерусалим и воскресение Лазаря, просит Соню прочитать это место из Евангелия. В эпилоге на Святой неделе, после болезни и физического выздоровления, они встречаются — их воскресила любовь:
«Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.
Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастия! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!» ( Д18 ; т. 7: 377).
Финал предвещает духовное исцеление героя. Символ этого — Новый Завет, который ему принесла Соня:
«Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но к величайшему его удивлению она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.
Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: "разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере…"» ( Д18 ; т. 7: 377–378).
Намек на будущее оказывается не менее действенным, чем само событие.
В романе «Идиот» враль генерал Иволгин сочиняет своего рода пародию о «воскресении» рядового Колпакова, который умер, был похоронен, но через полгода обнаружился на бригадном смотре «в третьей роте второго баталиона Новозем-лянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии!» ( Д18 ; т. 8: 77). Очные ставки, со слов генерала Иволгина, показали, что это тот же самый рядовой Колпаков, но никто не верит лгуну.
Беременность не болезнь, но в жизни и в искусстве роженицы и младенцы подчас умирают.
Шатов радуется рождению сына. Его неверная жена ненавидит себя, Ставрогина и ставрогинского ребенка. Ставрогин истребляет себя, но почему умирают Мари и младенец? В них тоже вселились на погибель бесы? Почему их не искупила жертва Шатова? Впрочем, это вопросы эвклидовского ума, в чем признается Иван Карамазов.
Вопросы читателей остаются без ответа, хотя один из возможных ответов начертан в евангельском эпиграфе романа. Вселившись в стадо свиней, бесы взбесились, бросились в обрыв и утонули.
Кирилов рассказывает великую идею в истории человечества:
«…был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал что сказал другому: "будешь сегодня со мною в раю". Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то для чего ей жить. Вся планета, со всем что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему подобного, и никогда, даже до чуда. В том и чудо что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого , даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то стало быть вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай если ты человек?» ( Д18 ; т. 9: 424).
Атеист Кирилов отрицает чудо, но отвергает и законы природы.
В романах Достоевского действует одна и та же модель творчества. Так, в романе «Братьях Карамазовы» скончался брат Маркел — но утвердился в служении Христу Зосима, старец почил — но восстал Алеша Карамазов, умер Илюша Снегирев — но обрели истину и смысл бытия Алеша и мальчики.
После успения старца Зосимы среди монастырской братии и мирян возникло «нечто необычайное, какое-то неслыханное и "неподобающее"», «даже волнение и нетерпеливое ожидание» ( Д18 ; т. 13: 267). Многие еще при жизни Зосимы считали, что старец свят. Узнав о его кончине, некоторые «захватили с собою больных своих, особенно детей, — точно ждали, уповая на немедленную силу исцеления, какая, по вере их, не могла замедлить обнаружиться» ( Д18 ; т. 13: 267). Возникли суета и волнение, «великое ожидание верующих», что казалось отцу Паисию «несомненным соблазном», которое он осуждал и в то же время сам ему поддавался, «потаенно про себя, в глубине души своей, ждал почти того же чего и сии взволнованные, в чем сам себе не мог не сознаться» ( Д18 ; т. 13: 268). Катастрофа разразилась, когда в келье обнаружился «тлетворный дух» от тела умершего. Почитание сменилось поношением, «ненасытимой злобой», посрамлением праведника.
Автор отмечает, что в православии нетление праведников не догмат, а лишь мнение (см.: «…не догмат же какой в православии сия необходимость нетления телес праведников, а лишь мнение». — Д18 ; т. 14: 271).
Ревнители обличают старца:
«…"несправедливо учил; учил что жизнь есть великая радость, а не смирение слезное", — говорили одни, из наиболее бестолковых» ( Д18 ; т. 13: 272).
«…"По-модному веровал, огня материального во аде не признавал" — присоединяли другие еще тех бестолковее. "К посту был не строг, сладости себе разрешал, варение вишневое ел с чаем, очень любил, барыни ему присылали. Схимнику ли чаи распивать?" — слышалось от иных завиствующих. "Возгордясь сидел, — с жестокостью припоминали самые злорадные, — за святого себя почитал, на коленки пред ним повергались, яко должное ему принимал". "Таинством исповеди злоупотреблял", — злобным шепотом прибавляли самые ярые противники старчества, и это даже из самых старейших и суровых в богомолье своем иноков, истинных постников и молчальников, замолчавших при жизни усопшего, но вдруг теперь отверзших уста свои, что было уже ужасно, ибо сильно влияли словеса их на молодых и еще не установившихся иноков» (Д18; т. 13: 272).
Алеша преодолел искушение «тлетворным духом». Его воскресило чудо в «Кане Галилейской», в которой Учитель сотворил радость на свадьбе бедных людей:
«Не горе, а радость людскую посетил Христос в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог… "Кто любит людей, тот и радость их любит…"» ( Д18 ; т. 13: 294).
Евангелие оживает в воображении героя: «раздвигается комната», пируют гости, из-за стола встает лежащий во гробе старец, он «зван и призван» на брак, который посетил Христос, к Нему на пир призван и Алексей Карамазов. Он отмечен добрым делом и помыслами, он «луковку сумел подать алчущей», он призван к делу:
«Начинай милый, начинай кроткий дело свое!..» ( Д18 ; т. 13: 295).
В восторге он «вскрикнул и проснулся», выбежал из кельи во двор — над ним «ночь облегла землю», разверзлась красота мира:
«Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною… Алеша стоял, смотрел, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю» ( Д18 ; т. 13: 296).
Произошло преображение героя:
«Он не знал для чего обнимал ее, он не давал себе отчета почему ему так неудержимо хотелось цаловать ее, цаловать ее всю, но он цаловал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. "Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…" — прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны и "не стыдился исступления сего". Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его и она вся трепетала "соприкасаясь мирам иным". Простить хотелось ему всех и за всё, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а "за меня и другие просят", — прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. "Кто-то посетил мою душу в тот час”, — говорил он потом с твердою верой в слова свои…
Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему "пребывать в миру"» ( Д18 ; т. 13: 296).
Сцена похорон Илюши символична (см.: [Джексон: 279]). Возле дома, где жили Снегиревы, Алешу поджидают мальчики, «человек двенадцать», столько, сколько и учеников Христа, «во главе их был Коля Красоткин» ( Д18 ; т. 14: 333). Он признается, что готов отдать всё, если бы можно было воскресить Илюшу. В том же сознается и Алеша: «Ах и я тоже» ( Д18 ; т. 14: 337).
После отпевания и погребения Алеша произносит поминальную речь у Илюшина камня. В ней очевидны приметы Тайной Вечери (см.: [Джексон: 279–295]). Вспоминая о погребении, он согласно призывает детей не забывать Илюшечку и друг друга, помнить, «как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику может-быть лучшими чем мы есть в самом деле» ( Д18 ; т. 14: 338).
Как учитель и проповедник, Алеша назидает:
«Знайте же что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание сохраненное с детства, может-быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» (Д18; т. 14: 338).
Илюша соединил всех в добром и светлом чувстве:
«…вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков!» ( Д18 ; т. 14: 340).
«Ах деточки, ах милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь когда что–нибудь сделаешь хорошее и правдивое!» ( Д18 ; т. 14: 340).
Речь Алеши вызвала общий восторг и энтузиазм. В общем говоре сумел подать голос Коля Красоткин:
«Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?» ( Д18 ; т. 14: 340).
Алеша отвечает, «полусмеясь, полу в восторге», — так возникает диалог:
«Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё что было <…>.
— Ах как это будет хорошо! — вырвалось у Коли» ( Д18 ; т. 14: 340).
И Коля, и мальчики клянутся жить «вечно так, всю жизнь рука в руку!» ( Д18 ; т. 14: 340).
Апофеозом звучит хор мальчиков:
«Ура Карамазову! — еще раз восторженно прокричал Коля и еще раз все мальчики подхватили его восклицание» ( Д18 ; т. 14: 340).
Этими словами автор заключает роман.
Рождение, радость, страдание и сострадание, исцеление или смерть суть земная жизнь людей и вымышленное бытие героев романов.
Смерть и воскресение сопряжены. В романах Достоевского умирают одни, воскресают другие герои. Чудо случается не в эмпирическом, а в метафизическом мире. Воображаемое столь же реально, что и явь.
Впервые идею восстановления в человеке человека Достоевский выразил в романе «Бедные люди», сотворив в Макаре Девушкине автора и гения (см.: [Захаров, 2018]). Сам писатель воскрес дважды: во время казни на Семеновском плацу и по выходе из Мертвого Дома. Восстав из каторги, он воскресил своих героев и читателей. Такова парадоксальная поэтика христианского реализма Достоевского: умирают мертвые, воскресают и укореняются в земле живые.
Такова диалектика неэвклидовcкого ума, как в Евангельском эпиграфе романа:
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24).
Врачи не воскрешают умерших. Воскрешает Христос. Воскрешают автор и умершие герои романов. Мертвые воскрешают живых.
In: Problemy istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2021, vol. 19, no. 1, pp. 258–282. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_ pdf/1612777253.pdf (accessed on May, 15). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9182 (In Russ.)
Список литературы Пасхальное измерение медицинской темы Достоевского
- Борисова В. В. Евангельский текст в русской литературе и Достоевский: итоги и перспективы изучения // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 4. С. 186–208 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1604078344.pdf (15.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8582
- Борисова В. В. Биграммы в терминологическом тезаурусе евангельского текста Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 4. С. 142–160 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1669632356.pdf (15.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2022.11522. EDN: UXVDZN
- Борисова В. В. Терминологический словарь-тезаурус евангельского текста Достоевского: результаты корпусного анализа и интерпретации // Неизвестный Достоевский. 2023. Т. 10. № 2. С. 81–112 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1689238963.pdf (15.05.2023). DOI: 10.15393/j10.art.2023.6701. EDN: NGMSEM
- Борисова В. В., Бучнева Д. Д. Что показывает графовая модель терминологического тезауруса евангельского текста Ф. М. Достоевского // Знание. Понимание. Умение. 2022. № 3. С. 148–158 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.mosgu.ru/zpu/article/view/1645 (15.05.2023).
- Борисова В. В., Шаулов С. С. Терминологический тезаурус евангельского текста Ф. М. Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2022. Т. 9. № 2. С. 117–136 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1657603083.pdf (15.05.2023). DOI: 10.15393/j10.art.2022.6122. EDN: LCZGHZ
- Джексон Р. Л. Речь Алеши у камня: «целая картина» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Вып. 7. С. 276–296 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2668 (15.05.2023).
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 287 с.
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 349–362 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2526 (15.05.2023).
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 559 с.
- Есаулов И. А., Тарасов Б. Н., Сытина Ю. Н. Анализ, интерпретации и понимание в изучении наследия Достоевского: коллективная монография / М.: Индрик, 2021. 336 с.
- Захаров В. Н. Кто гений, кто Шекспир. Из антропологических открытий Достоевского // Русская словесность. 2018. № 2. С. 3–8 [Электронный ресурс]. URL: http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=81458&-
- SECTION_ID=4 (15.05.2023).
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. № 3. С. 249–261 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2403 (15.05.2023).
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. № 3. С. 5–11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (15.05.2023).
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 5–20 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2511 (15.05.2023).
- Захаров В. Н. Сибирская Пасха Достоевского // Ф. М. Достоевский. «Перерождение моих убеждений» / науч. ред. В. Ф. Молчанов, Е. Э. Вишневская. Тобольск: Издательский отдел ТРОБФ «Возрождение Тобольска», 2021. С. 12–19.
- Захаров В. Н. Госпитальные сцены в «Записках из Мертвого Дома» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 2. С. 304–323 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1658823847.pdf DOI: 10.15393/j9.art.2022.11083. EDN: YWDWIY (15.05.2023). (a)
- Захаров В. Н. «Смерть можно будет побороть…» (танатологический сюжет в «Братьях Карамазовых» Достоевского) // Неизвестный Достоевский. 2022. Т. 9. № 4. С. 30–43 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1670693360.pdf (15.05.2023). DOI: 10.15393/j10.art.2022.6361. EDN: ZHBAVO (b)
- Федорова Е. А. Церковный календарь, евангельский и литургический текст в романе «Подросток» и «Дневнике Писателя» (1876) Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 258–282 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1612777253.pdf (15.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9182
- Шульц О. Светлый, жизнерадостный Достоевский / отв. ред. В. Н. Захаров; коммент. В. Н. Захарова, А. Е. Кунильского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. 367 с.