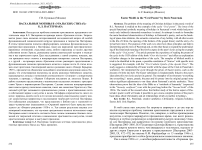Пасхальные мотивы в "Уральских стихах" Б.Л. Пастернака
Автор: Куницын Георгий Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Исследуется проблема значения христианских праздников в поэтическом мире Б.Л. Пастернака на примере цикла «Уральские стихи». Затрагивается ранее лишь косвенно интересовавший исследователей вопрос об особой функциональной символической нагрузке праздников в творчестве Пастернака. В статье представлена попытка сформулировать основные функциональные характеристики праздников у Пастернака, такие как нарушение пространственновременных отношений, смысловая связь любого праздника со всеми другими событиями жизни Христа, размыкание границ евангельской истории и вхождение в нее лирического героя. Цель исследования: с одной стороны, показать, как эти принципы могут помочь в интерпретации конкретных текстов Пастернака, а, с другой - на примере цикла «Уральские стихи» расширить представления о функциональном значении праздничного аспекта в лирике поэта. В статье изложен опыт прочтения стихотворений цикла в редакции книги «Поверх барьеров» 1929 г., предлагается объяснение дальнейшего изменения композиции цикла. Показано, что стихотворения построены на целом комплексе библейских сюжетов, высказывается догадка о возможной соотнесенности «Станции» с конкретными текстами, к примеру, с «Первым Соборным посланием св. апостола Петра». В работе изложено предположение о взаимосвязи пасхальных мотивов с пространством Урала в мировоззрении Пастернака. Сделана попытка интерпретировать цикл сквозь призму пасхальных сюжетов, таких как сошествие Христа в ад. Пасхальный субстрат оказывается принципиально увязан с представлениями поэта о собственной лирике и искусстве в целом. Метафора сопричастности «всего со всем»: природы, людей, поэта и его поэзии исходному евангельскому сюжету вносит существенные коррективы в исследования творческой эстетики Пастернака. Эти наблюдения доказывают, что представление о Библии как о «записной тетради человечества» (высказанное в «Охранной грамоте») было присуще поэту задолго до «Второго рождения» 1930-х гг. Тем самым результаты анализа стихотворений показывают, что изучение праздничного аспекта поэтического мира Пастернака может позволить составить более полное понимание базовых положений его творческой эстетики о взаимосвязях христианства и искусства, точкой кристаллизации которых и выступают праздники.
Б.л. пастернак, творческая эстетика, христианство, религиозные праздники, пасха, ад, урал, крещение
Короткий адрес: https://sciup.org/149135838
IDR: 149135838 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00047
Текст научной статьи Пасхальные мотивы в "Уральских стихах" Б.Л. Пастернака
В этой статье нам хотелось бы затронуть широкую и до сих пор не вполне изученную проблему значения христианских праздников в поэтическом мире Пастернака. Понятно, что, наверное, в любом произведении искусства, в котором маркируется праздничное время, оно несет разнообразную и глубоко укорененную в европейской культуре символику. Однако для Пастернака, как выразителя «по-новому понятного христианства» [Пастернак 2003-2005, IV, 67] (цитируя «Доктора Живаго»), «христианства в своей широте немного иного, чем квакерское и толстовское, идущего от других сторон Евангелия в придачу к нравственным» [Пастернак 2003-2005, IX, 472-473] (из письма О.М. Фрейденберг от 13 октября 1946 г), праздники приобретают особое функциональное символическое значение.
Уже в конце 1920-х гг, в автобиографической повести «Охранная гра-

мота» (подробнее о творческой эстетике «Охранной грамоты» см. соответствующие главы в [Флейшман 2003]), Пастернак формулирует крайне важную для его творческой эстетики мысль:
Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культура есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основании традиции, неизвестным же, каждый раз новым - актуальный момент текущей культуры... [Пастернак 2003-2005, III, 207].
Таким образом, искусство определяется Пастернаком как сочетание известного, происходящего из Библии, и неизвестного, то есть современной действительности. Искусство как будто вписывает каждый новый «актуальный момент», каждую новую эпоху в «записную тетрадь человечества», устанавливает взаимосвязь времен через пронизывающую их исходную библейскую «легенду». Соответственно, праздники в поэтическом мире Пастернака, естественно, оказываются маркированным звеном этой цепи. Праздники находятся на стыке реального физического мира и его символического преображения, линейного и циклического времени; в русло этого наслоения вечности на конкретное время любой праздник входит не самостоятельно, а в обязательной ассоциативной связке с другими, любой оказывается в кругу рождения и смерти Христа; «замкнутость» евангельской истории размыкается поэтически - лирический субъект через поэзию «входит» в эту историю, праздник. Возможно, наиболее отчетливо это представлено в композиции цикла стихов Юрия Живаго, замыкающих роман, повествующий о полувековом этапе русской истории (подробнее о «новом христианстве» «Доктора Живаго» см. в [Поливанов 2015]).
В настоящей статье нам хотелось бы продемонстрировать, как эти принципы работают применительно к циклу «Уральские стихи», включенному в книгу стихотворений 1929 г. «Поверх барьеров».
Обращаясь к так называемым «Стихам разных лет» (авторское заглавие, впервые появившиеся в 1933 г), нам, конечно, следует учитывать, что, как и в случае с другими циклами этой книги - «Начальной порой» и «Поверх барьеров», мы имеем дело с «ранними» текстами, сильно переработанными Пастернаком для издания 1929 г. Кроме того, мы обращаемся к разделу, изначально не планировавшемуся как цельная книга стихов (если не считать совсем искусственные «Первые опыты»). Стихотворения «Стихов разных лет», как и следует из названия, были написаны и публиковались в разное время и были сведены автором специально для сборника «Поверх барьеров». Сам Пастернак пояснял, что «Стихи разных лет» 1929 г, были составлены, когда «самое <.. .> понятие «Поверх барьеров»» для него «изменилось. Из названия книги оно стало названием периода или

манеры, и под этим заголовком я (Пастернак - ГК.) <.. .> объединял вещи, позднее написанные, если они подходили по характеру к этой первой книге, то есть если в них преобладали объективный тематизм и мгновенная, рисующая движение живописность» [Пастернак 2003-2005,1, 499].
Применительно к праздничной теме нам кажется существенным обратить внимание на один из «подциклов» большого цикла «Эпические мотивы» - «Уральские стихи». Целиком «Уральские стихи» были впервые изданы в 1921 г. («Рудник» был издан раньше в 1918 г). Как отмечают Е.Б. и Е.В. Пастернаки, этот цикл - воспоминание о поездке на Кизеловские копи, предпринятой Пастернаком 27 мая 1916г. [Пастернак 2003-2005, I, 510]. В изначальном варианте 1921 г. цикл состоял из трех стихотворений - на последнем месте стоял практически нетронутый, по сравнению с вариантом 1918г, «Рудник», а «Станция» была разделена на два стихотворения (строфы с 1 по 10 итогового варианта были озаглавлены «Станция», строфы с 11 по 13 и еще две, впоследствии выброшенные, - без названия).
Несложно обратить внимание, сколь важное место в «Уральских стихах» играет соотнесенность лирического сюжета (посещения рудника и выхода из него в «Руднике», посещения станции Копи и Урала в принципе в «Станции») с Пасхой и ее символическими коннотациями. В первоначальной версии «Станции» «пасхальные» строфы и вовсе занимали финальное, акцентированное место, они шли после рефреном повторенной первой строфы, т.е., к тому же, должны были восприниматься в какой-то степени автономно от всего остального стихотворения:
Будто всем, что видит глаз, До крапивы подзаборной, Перед тем за миг пилась Сладость радуги нагорной.
Будто оттого синель Из буфета выгнать нечем, Что в слезах висел туннель И на поезде ушедшем.
В час его прохода столь На песке перронном людно, Что глядеть с площадок боль, Как на блеск глазури блюдной.
Ад кромешный! К одному Гибель солнц, стальных вдобавок, Смотрит с темечек в дыму Кружев, гребней и булавок.

Плюют семечки, топча Мух, глотают чай, судача, В зале, льющем сообща С зноем неба свой в придачу.
А меж тем, наперекор Черным каплям пота в скопе, Этой станции средь гор Не к лицу названье «Копи».
Пусть нельзя сильнее сжать (Торы. Говор. Инородцы), Но и в жар она — свежа, Будто только от колодца.
Будто всем, что видит глаз, До крапивы подзаборной, Перед тем за миг пилась Сладость радуги нагорной.
Что ж вдыхает красоту
В мленье этих скул и личек? -
Мысль, что кажутся Хребту
Горкой крашеных яичек.
Это шеломит до слез,
Обдает холодной смутой,
Веет, ударяет в нос,
Снится, чудится кому-то [Пастернак 2003-2005,1, 234-235].
Понятно, что в сочетании со сквозным для стихотворения образом «нагорной радуги», эти строки (33-40) могут прочитываться в церковноевангельском ключе. Общий лирический сюжет «Станции» (в ее изначальном варианте) развертывается по вполне соответствующему этому духу сценарию: лирическому герою, приехавшему на станцию «Копи», кажется, будто весь мир преображен радугой (и, соответственно, прошедшим дождем? - стихи 1-4); ему повсюду видятся инерции этой радуги - дуги, висящей над миром - в буфетных занавесках, арке туннеля над поездом (5-8); он вспоминает, что, когда он только выходил из поезда, осматриваясь с площадки, ему было больно смотреть на уже вышедших людей, потому что в их головных украшениях (сделанных из стали, «гребнях и булавках») отражалось солнце (9-16); герой, как бы спасаясь от этих ярких отблесков, вместе с другими пассажирами идет в зал станции и наблюдает отдыхающих здесь людей (17-20); рассматривая их и замечая на лицах черный пот, герой задумывается о названии станции и его несоответствии
общей свежести, пусть и жаркой, картины, преображенной «нагорной радугой» (21-32); внезапно герой осознает, что красота этой картины обусловлена пришедшей к нему мыслью / метафорой о том, что окружающим станцию горам (Хребту) толпа людей на станции, чьи головные украшения отражают солнечный свет, должна казаться «горкой» пасхальных яиц (33-36); сформулировав эту метафору, герой впадает в своего рода экстатическое состояние (о значимости экстатических состояний у Пастернака см. главу из книги А.К. Жолковского [Жолковский 2011, 92-116]) между смехом (39), дрожью (38), слезами (37) и даже предписывает свою метафору, картину чьему-то сну (40).
Тем самым единство преображенной картины обеспечивается не только взаимосвязью «всего со всем» (отметим, что, к примеру, по Жолковскому, единение всего со всем в настоящем и в вечности - это «центральная тема пастернаковской лирики» [Жолковский 2011, 15]), неба и земли: радуга - «до крапивы подзаборной»; общая «геометрия» мира - дуга над всем миром отражается в связанной с первой строфой анафорой «Будто» второй строфе, где необходимость буфетных занавесок (дуги над окнами -миром?) обуславливается («И на поезде ушедшем») тем, что точно так, как занавески, «висит» и туннель над поездом, как впоследствии «висит» над людьми зной зала, «в придачу» к зною небесному; связь через отражения солнечного света в украшениях на «темечках» людей, которые при этом обращены «к одному», то есть к солнцу. Единство обеспечивается и через принадлежность всей картины мироздания одному сознанию, одному сну.
Ясно, что ключевую роль в этом сюжете играет сила преображения «нагорной радуги», а «пасхальные строфы» призваны как бы объяснить этот образ («Что ж вдыхает красоту <...>?»). Обратим особое внимание на синтаксическое устройство последних (в изначальном варианте) строф: совершенно невозможно однозначно сказать, «пил» ли весь мир радугу, или она «пилась» миром; ровно так невозможно сказать, кому принадлежит «мысль» - то ли лирическому субъекту, которому она позволяет видеть красоту в «мленье скул и личек», то ли самим людям, и их красота внутренне обусловлена «мыслью»; так же нельзя сказать, что «шеломит», «обдает», «ударяет» относится исключительно к лирическому субъекту -может, и к людям, и к читателям, и, как мы в итоге узнаем, к «кому-то». Тем самым, сила преображения оказывается силой, преодолевающей границы между «нагорной радугой» (собственно, светом Нагорной проповеди?) и всем миром, которые «питаются» друг другом; между людьми на платформе, лирическим героем и Хребтом («Хребту» в рифменной позиции и с «большой» буквы, как кажется, анаграмматично «Христу»), каждому из которых в равной степени принадлежит «мысль»; границы между нарисованной картиной, со всеми ее составляющими, и «чьим-то» сном, где под «кем-то», как кажется, угадывается кто-то вроде «Небесного Постника» из более раннего стихотворения «Дурной сон».
В конце концов это финальное всеобъемлющее единство мира в принадлежности к чьему-то сознанию обеспечивается именно «мыслью» о
сходстве толпы с «горкой крашеных яичек». Таким образом, праздничный, пасхальный сюжет оказывается центральной и важнейшей движущей силой стихотворения. При этом нам кажется не менее важным отметить, что этот сюжет подразумевает и ряд ветхозаветных ассоциаций: радуга, в контексте христианской символики «Станции», может отсылать к образу радуги как символа завета, договора между Богом и людьми после потопа («И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле» Быт. 9:16) - отметим здесь же «водные» образы стихотворения, косвенно свидетельствующие о прошедшем дожде: «в слезах висел туннель»; «Но и в жар она - свежа / Будто только от колодца».
Однако говоря о единстве преображенного мира, нам никак нельзя обойти вниманием вопрос о том, каковы, собственно, составляющие «земного», сопричастного в стихотворении «небесному». Подзаборная крапива, буфетная синель, черный пот, ассоциативно связанные с буфетом образы «блюдной глазури», отвратительные образы потребления - люди «плюют семечки», «глотают чай», «топчут», а за счет анжамбемана и «глотают» мух. Земной мир представлен «кромешным адом», который и входя во взаимоотношения с небом (отражая солнечный свет), предстает в этих отношениях «кривым зеркалом», в котором одно, бессмертное солнце, обречено на «гибель» во множестве отражений.
Тем самым сила «мысли», поэзии, принадлежащей как лирическому герою, так и «кому-то», так и, строго говоря, Хребту, не просто преодолевает границы земли и неба, земного и небесного, но границы неба с его нагорной (Нагорной?) радугой и ада отвратительной «жаркой» жизни станции «Копи». Апокалиптическая метафора о «гибели солнц» поддерживает это интуитивное противопоставление; кажется, что лирический герой, являясь персонажем «чьего-то сна», спускается в ад станции Копи, чтобы преобразить его, чтобы увидеть малоприятных пассажиров как «горку крашенных яичек». В какой-то мере эта вертикаль, от неба и хребта к адской земле, где связующим элементом выступает творческая мысль художника, может даже напоминать о выявленной В.И. Тюпой в романе «Доктор Живаго» «архитектонике мирового дерева», которое «предстает у Пастернака как соотнесенность СМЕРТИ (земли и мертвой вечности), ЖИЗНИ (природы и истории) и ВЕЧНОСТИ (неба и жизни вечной)» [Поэтика 2014, 30]. Здесь же заметим, что, судя по всему, ассоциативная увязка крашеных пасхальных яиц с Уралом останется с Пастернаком надолго: так, единственный раз, когда в «Докторе Живаго» встречается «традиционное» празднование Пасхи, с яйцами и куличами, - это происходит на Урале (в части «На большой дороге»). Более того, там возникает образ «горки»:
Во всю длину столов стояли миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, тарелки своего, крупно нарезанного деревенского хлеба, широкие блюда крашеных, высокою горкою выложенных яиц. В их окраске преобладали розовые и голубые.
Наколупанной яичной скорлупой, голубой, розовой и с изнанки - белой, было
намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета - платья девушек. Голубого цвета было небо. Розового - облака, плывшие по небу так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними [Пастернак 2003-2005, IV, 320].
Понятно, что в контексте застолья, организованного для рекрутов, пасхальные яйца в какой-то степени выступают аллегорией новобранцев и провожающих их девушек - «мальчиков и девочек» (одно из первоначальных «рабочих» названий «Доктора Живаго»), Однако хотелось бы обратить внимание и на соотнесенность розовых и голубых яиц с небом и облаками - как кажется, сходным образом «окрашенность» яиц в «Станции» входит в перекличку с «нагорной» радугой (особенно на фоне «земных» цветов - стального и черного).
Здесь же нам следует сказать, что народная традиция предполагает, что пасхальные яйца - символ живого внутри мертвого (о чем, в частности, пишут авторы энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его; окрашенное красной краской, оно знаменует возрождение наше кровию Иисуса Христа» [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1897, 948]), символ воскресения Христа, а, точнее, тех трех дней, что прошли между распятием и воскресением. Несложно заметить, сколь тесно один из сюжетов, традиционно связываемых с теми самыми тремя днями (о значимости, которых, к примеру, для «Доктора Живаго» отдельно говорить не приходится), переплетается с «Уральскими стихами». Речь идет, конечно, о Сошествии Христа во ад, сюжете, отчетливо аукающемся в «Руднике». Тем самым, как нам кажется, «Станция» с ее «кромешным адом», ее пока что только названием («Копи») не только предрекает «натуральный» ад «Рудника» и настоящие копи, но и сам сюжет о сошествии в ад и воскресении. Лирический герой «Станции», приезжая в ад (как бы спускаясь в него с площадки вагона), поэтически преображает его, приписывая Хребту мысль о «горке крашеных яичек», мысль о воскресении Христа и разрушении врат ада, в каком-то смысле возвещая победу над смертью, воскресение и, конечно, нагорную (заметим, что и в каноническом тексте, Первом соборном послании святого апостола Петра «Он (Христос - Г.К.) и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (Шет. 3:19)). Эта интерпретация позволяет нам предположить, что «снится, чудится» это все самому Христу, еще не воскресшему, как бы спящему и символически объединяющему изоморфного ему лирического героя и фонически соотнесенный с ним Хребет, которым эта «мысль» и принадлежит.
Отметим, что процитированный нами выше фрагмент из Первого соборного послания продолжается словами: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (Шет. 3:21), равно как «Станция» в издании 1929 г. (и во всех последующих) продолжается первыми тремя строфами ранее отдельного стихотворения «Кто крестил
леса и дал...». В целом же мы затрудняемся объяснить решение Пастернака об объединении этого стихотворения со «Станцией», хотя и понятно, что и в том, и в другом речь идет об уральских наименованиях, об Урале. Вполне ясно, что это объединение влечет за собой «переинтерпретацию» «Станции»: если сразу после «кому-то» следует анафористическое вопрошание «кто», то кажется, что речь идет об одном и том же персонаже. Оказывается, что картина станции «снится и чудится» тому, кто «крестил» Урал, углю. Впрочем, быть может, здесь сыграла свою роль историческая обстановка. В 1928-1929 гг, когда Пастернак работает над новыми «Поверх барьеров», как известно, была объявлена и начата «индустриализация» - возможно, это заставило Пастернака вспомнить о блоковской концепции России как «Новой Америки». Ровно так озаглавлено одно из стихотворений блоковского цикла «Родина», в котором, в частности есть такие строки: «Не в богатом покоишься гробе / Ты, убогая финская Русь!» (ср. «Встарь пугавши финна ими?»); «Черный уголь - подземный мессия, / Черный уголь - здесь царь и жених, / Но не страшен, невеста, Россия, / Голос каменных песен твоих! / Уголь стонет, и соль забелелась, / И железная воет руда... / то над степью пустой загорелась / Мне Америки новой звезда!» [Блок 1997, 181-182] (ср. рефрен «уголь» с анафорой «Станции»; рефрен «черный» с «черными каплями пота» и «черной бурею лица»). Отметим здесь же, что в издании 1921 г. у «Уральских стихов» был эпиграф из Брюсова: «Лед и уголь: вы могильны» из стихотворения «Лед и уголь, вы - могильны!..», в котором углю отводится незавидная роль «безнадежного мертвеца» [Брюсов 1973, 340-341], а само стихотворение «Кто крестил леса и дал...» продолжается довольно страшными строфами:
Реки, - будто лес, как кит
Снизу, с лодки миной взорван, И из туч и из ракит
Дно, обуглясь, гонит ворвань.
Будто день сплавляет лес
Ночью этих салотопен.
Строй безмолвья - до небес
И шеститысячестолпен. [Пастернак 2003-2005,1, 510-511]
Быть может, допустимо предположить, что при работе в конце 1920-х, Пастернак сократил стихотворение и «переадресовал» ассоциацию от Брюсова к Блоку, чтобы в какой-то степени реабилитировать «уголь» сам по себе (но все-таки не копи, как сказано в «Руднике»: «царство угля - царство трупа»).
Так или иначе, в окончательной редакции «Уральских стихов» за «Станцией» следует «Рудник», написанный на год раньше. Тем не менее нельзя не заметить, что в «Станцию» из «Рудника» многое переходит: геометрия («косая тень» (зари и спин) переходит в «дуги»); «скоп» (слово,
встречающееся и там, и там); ад («царство трупа») и, конечно, выход из него со слепящим солнечным светом, слезами («И шутка ль! - Надобно уметь / не разрыдаться в исступленьи» - «в слезах висел туннель», «шело-мит до слез»). Тем самым, с точки зрения композиции цикла, «Станция» несомненно должна подготовить читателя к «сошествию» в ад в «Руднике» и к выходу из него. Здесь нам кажется наконец уместным вспомнить о том, как Пастернак описывал свое посещение рудника в письме к родителям: «бог меня привел побывать в шахтах. Это я запомню на всю жизнь. Вот настоящий ад! Немой, черный, бесконечный, медленно вырастающий в настоящую панику!» [Пастернак 2003-2005,1, 510-511].
При всем том, стоит отметить, что соотнесение выхода из ада с пасхальным сюжетом о «Сошествии...» происходит не впрямую. Понятно, что слова «Как будто ты воскрес...» вынуждают читателя к этой ассоциации, но «впрямую» лирический герой соотносит себя вовсе не с Христом, а с «теми - / Из допотопных зверских капищ», те. с героями языческих культур - возможно, с Орфеем, Одиссеем или даже Гильгамешем. С другой стороны, вряд ли к героям античной или даже древневосточной литературы может относиться определение «допотопное» в буквальном его значении, зато в уже цитировавшемся «Первом послании...» сразу после слова «проповедал» следует: «которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды» (Шет. 3: 19-20). Тем самым, быть может, лирический герой соотносит себя вовсе не с античными героями, а с теми допотопными людьми, которым, согласно апостолу Петру, проповедал Христос в аду - а может быть, даже и с теми ветхозаветными праведниками, которых Христос из ада вывел (в частности, допотопными Адамом и Авелем (ср. «допотопных зверских капищ»), что описано, к примеру, в «Божественной комедии»: «Когда, при мне, сюда сошел Властитель, / Хоруговью победы осенен. / Им изведен был первый прародитель; / И Авель, чистый сын его, и Ной...» [Данте 1967, 91]).
Так или иначе, понятно, что «праздничный аспект», пасхальный субстрат очень важен для «Уральских стихов». Празднично-пасхальные образы, пусть и не прямо свидетельствующие о том, что сюжет разворачивается на Пасху (или, например, на Красную горку - ср. «горкой крашенных яиц») тем не менее, открывают существенный символический план цикла. Естественно, праздник выполняет уже отмечавшиеся нами основополагающие функции - Пасха оказывается на стыке реального физического мира и его преображения («Перед тем за миг пилась...»), нарушает границы между небом и землей, адом; человеком, другими людьми и Богом. Кроме того, «Уральские стихи» - замечательный пример того, как евангельская история поэтически размыкается - лирический герой входит в нее через «мысль», метафору, разрушая, подобно Христу, оковы «адской» реальности. Герой не просто метафорически уподобляется Христу, но возводит собственное «чудо» («чудится»), метафору, поэзию к вести о воскресении,
с которой Христос спустился и вышел из ада.
Таким образом, раскрывая функциональное значение праздников и связанных с ними сюжетов, на примере «Уральских стихов» мы приходим к выводу, что уже в стихотворениях начала 1920-х гг. вполне прослеживается базовое положение творческой эстетики «Охранной грамоты», которое, очевидно, и легло в основу «нового христианства» «Доктора Живаго». Представление о Библии как о «записной тетради человечества», судя по всему, было значимо для Пастернака задолго до 1930-х и, как мы предполагаем, составляло глубинную основу его философии с самых ранних стихов. Разумеется, эта тема требует дальнейших разысканий, но кажется, что последовательный анализ всех «праздничных» текстов поэта, выявление и описание той особой символической роли, которую праздники играют в его поэтике, могут значительно углубить наше понимание процесса формирования и трансформаций творческой эстетики Пастернака.
Список литературы Пасхальные мотивы в "Уральских стихах" Б.Л. Пастернака
- Блок А.А. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 3. М.: Наука, 1997.
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1973.
- Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М.: Художественная литература, 1967.
- Жолковский А.К. Поэтика Пастернака: инварианты, структуры, интертексты. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.: Слово, 2003-2005.
- Поливанов К.М. "Доктор Живаго" как исторический роман. Тарту: University of Tartu press, 2015.
- Поэтика "Доктора Живаго" в нарратологическом прочтении / Под ред. В.И. Тюпы. М.: Intrada, 2014.
- Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб.: Академический проект, 2003.
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т. 44. Оуэн - Патент о поединках. СПб.: Семеновская Типо-Литография (И.А. Ефрона), 1897.