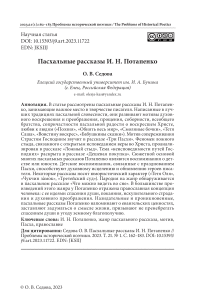Пасхальные рассказы И. Н. Потапенко
Автор: Седова Олеся Валерьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены пасхальные рассказы И. Н. Потапенко, занимающие важное место в творчестве писателя. Написанные в лучших традициях пасхальной словесности, они развивают мотивы духовного воскрешения и преображения, прощения, соборности, всеобщего братства, сопричастности пасхальной радости о воскресшем Христе, любви к людям («Поэзия», «Обнять весь мир», «Смоляные бочки», «Тетя Саша», «Воистину воскрес», «Бабушкины сказки»). Мотив сопереживания Страстям Господним звучит в рассказе «Три Пасхи». Феномен ложного стыда, связанного с открытым исповеданием веры во Христа, проанализирован в рассказе «Ложный стыд». Тема «неисповедимости путей Господних» раскрыта в рассказе «Дешевая покупка». Сюжетной основой многих пасхальных рассказов Потапенко являются воспоминания о детстве или юности. Детские воспоминания, связанные с празднованием Пасхи, способствуют духовному исцелению и обновлению героев писателя. Некоторые рассказы носят юмористический характер («Тетя Оля», «Чукчин зàмок», «Третейский суд»). Пародия на жанр обнаруживается в пасхальном рассказе «Что можно видеть во сне». В большинстве произведений этого жанра у Потапенко отражена православная концепция человека: с ее идеями спасения души, покаяния, искупительного страдания и духовного преображения. Назидательные и проникновенные, пасхальные рассказы Потапенко напоминают о евангельских ценностях, заставляют задуматься о смысле жизни, призывают не пренебрегать спасением души в угоду земному благополучию.
И. н. потапенко, жанр пасхального рассказа, мотив, пасха, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/147239846
IDR: 147239846 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.11722
Текст научной статьи Пасхальные рассказы И. Н. Потапенко
П асхальный рассказ, относящийся к календарной литературе, привлекает пристальное внимание исследователей, сходящихся во мнении, что «православная Пасха и цикл пасхальных праздников дали русской литературе жанр пасхального рассказа» [Захаров, 2012: 160]. О жанре пасхального рассказа писали многие литературоведы (см.: [Кошелев], [Баран], [Захаров, 1994, 2012], [Есаулов, 2004], [Николаева], [Козина, 2010, 2019]).
Х. Баран, рассматривавший пасхальный рассказ в контексте дореволюционной праздничной литературы и русского модернизма, считал, что основными признаками этого жанра «становятся ожидание чуда, сопереживание Страстям Господним, воспоминания о праздниках в детстве и о более гармоничном, счастливом, чем во взрослом возрасте, состоянии души» [Баран: 287]. Кроме того, в нем «присутствует и нравоучительный элемент, естественным образом вытекающий из самой идеи Светлого Воскресенья» [Баран: 287–288].
Основательную характеристику данного жанра дал В. Н. Захаров, утверждающий, что «пасхальный рассказ назидателен — он учит добру и Христовой любви; он призван напомнить читателю евангельские истины. Его сюжеты — "духовное проникновение", "нравственное перерождение человека", прощение во имя спасения души, воскрешение "мертвых душ", "восстановление" человека» [Захаров, 1994: 256]. К обязательным признакам его относятся «приуроченность времени действия к Пасхальному циклу праздников и "душеспасительное" содержание» [Захаров, 1994: 256].
И. А. Есаулов говорит о «пасхальности русской словесности», история которой начинается со «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона, а также о наличии особого пасхального архетипа русской словесности, проявляющегося «главенством сверхзаконной небесной Благодати над земным Законом» [Есаулов, 2004: 22]. Исследователь ввел в литературоведческий обиход категорию соборности как одну «из фундаментальных особенностей русского православного пасхального архетипа» [Есаулов, 2004: 3], источником которой является Благодать Божия.
Т. Н. Козина, опираясь в своем исследовании на концептуальные идеи И. А. Есаулова, писала, что в пасхальном рассказе сконцентрированы некоторые черты литургической поэзии, драмы и притчи: «пафос, эмоциональный подъем — из гимнографии; динамичность, эффект присутствия — из литургической драмы; учительский пафос, дидактичность повествования — из притчи» [Козина, 2010: 376]. В сюжете пасхальных рассказов, по ее мнению, «непременно должны присутствовать духовное преображение героя, то есть уничтожение в себе "ветхого" человека, победа добра и любви над ненавистью и злобой, прощение своего обидчика, способность радоваться чужому счастью» [Козина, 2010: 378].
В настоящее время существует много исследований, посвященных анализу произведений писателей, обращавшихся в своем творчестве к этому жанру1. Однако пасхальные рассказы И. Н. Потапенко продолжают оставаться на периферии исследовательских интересов. Между тем в 90-е гг. ХIX — начале ХХ в. это был один из самых востребованных писателей, плодотворно работавший и в данном жанре. Активно сотрудничавший с различными изданиями периодической печати, он значительную часть своих пасхальных произведений опубликовал в еженедельном иллюстрированном журнале «Нива», позиционировавшем себя как журнал для семейного чтения и предназначенном для широкого круга читателей.
Так, рассказ Потапенко «Поэзия» был впервые опубликован в этом журнале на Пасху 1895 г.2 Он написан в лучших традициях пасхального рассказа, развивающего такие мотивы, как духовное преображение и обновление, прощение, воскрешение «мертвой души», сопричастность пасхальной радости о воскресшем Христе. Повествование ведется от лица героя, состоящего в чине действительного статского советника, который в скверном настроении едет на пасхальную утреню в церковь своего министерства. Чиновника приводят в уныние сырой туман, фонари, напоминающие блуждающие огни, предстоящее ночное богослужение, которое он воспринимает как «два с половиной часа духоты и толкотни»3. По дороге в церковь в карете он вспоминает пасхальную ночь времен своей молодости. Воспоминания о прошлом вызываются колокольным звоном. Этот прием был также использован автором в повести «Грехи» (1895), где звон колокола «возрождает в памяти автора-повествователя детское воспоминание об этом же дне с тем же <…> колокольным звоном» [Седова: 239]. Счастливое и радостное воспоминание исцеляет героя.
В рассказе развивается мотив соборности, являющейся, по мнению А. С. Хомякова, «единством органическим, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви»4. Единством, «единым телом» человечество становится только в Церкви, «потому что она — единое Тело Христово»5. По словам протоиерея Георгия Флоровского, «в Церкви человечество переходит в другой план, начинает иной образ бытия. Становится возможной новая жизнь, истинная, всецелая и совершенная жизнь, жизнь соборная»6. Ключевым аспектом соборности является взаимная братская любовь, которая «требует самоотдачи» и «возможна только в соборном рас крытии и пре ображении души»7.
Именно чувство соборности — как «духовное единение, братство во Христе, чувство общинности, основанное на понимании человека как высшей ценности» [Козина, 2019: 72], — переживает герой рассказа «Поэзия» в пасхальную ночь: «…как будто грудь <…> расширялась и в ней вырастало <…> сердце, и в этом сердце было столько любви, что <…> хотелось обнять всех людей, весь мир. А звезды как бы оживали и превращались в Ангелов. Вот раздвигается небесный свод и, осененные дивным светом, Ангелы тихо взмахивают своими прозрачными крыльями и хвалят Бога и призывают на землю мир и поют песню любви…» (285). Охваченный благодатью, герой чувствовал такую сопричастность пасхальному вселенскому ликованию, что ему казалось: «каждая звезда — это мысль» (284), — и в глубине сердца он «в тот момент понимал всякую звезду, <…> понимал все их мысли, потому что все они <…> горели одной думой — о любви» (284). Это чувство не покидает героя, уже очнувшегося от воспоминания. Ему хочется «заглянуть в церкви, где горят тысячи свечей и раздается бодрящее молитвенное пение, <…> хочется христосоваться со всеми, с первым встречным, с <…> кучером, с швейцаром, с <…> лакеем» (287).
Мотив соборности реализуется и в рассказе «Обнять весь мир» (1897). Главный герой — влюбленный юноша, из-за отсутствия взаимности намеревающийся покончить жизнь самоубийством. Окруженный любовью и заботой близких, он не ценит этого, оставаясь ко всему равнодушным. Исцеление от наваждения происходит благодаря воспоминанию о детстве, когда в пасхальную ночь он «весь превращался в радость и сливался с ликовавшим народом, наполнявшим церковь, при ярком свете сотен восковых свечей, при торжественном пении церковных песен…»8. Воспоминание об испытанном в детстве соборном чувстве благодатной взаимной любви преобразило героя. С особой остротой воспринимается им «свежая прохлада ранней весны», «тончайший запах молодых листьев», «темное звездное небо», отражающееся «в темной стали поверхности реки»9, ярко освещенная церковь. И духовно воскресший герой торопится в храм, чтобы со всеми разделить пасхальную радость.
Мотив пасхальной радости развивается в рассказе «Смоляные бочки»10 (1898), где автор-повествователь описывает себя восьмилетним ребенком, впервые посетившим ночное пасхальное богослужение, чтобы увидеть смоляные бочки, которые по обычаю будут гореть ночью около церкви. Смолил бочки конюх Влас, который делал это тайно, чтобы удался сюрприз. Тайна становится основным мотивом рассказа: наряду с тайной Власа есть она и у кухарки Анисьи, пекущей куличи с видом «человека, исполненного тайны»11. Сама кухня, где «священнодействовала» Анисья, превращается «в заповедное место», нечто вроде «неопалимой купины», к которой простой смертный не смеет приближаться. Еще одна тайна связана с желанием мальчика быть ночью на пасхальном торжестве и наблюдать горящие бочки. Таким образом, «к двум тайнам, которые хранились в сердцах Анисьи и Власа, — у первой — в виде великолепно испекшихся папушников, у второго — в образе смоляных бочек, — прибавилась третья тайна, хранившаяся в <…> маленьком восьмилетнем сердце» (266). Эти три частные тайны связаны с вечной тайной воскресшего Господа. Желание мальчика сбылось: он увидел горящие бочки. Огромные языки пламени поднимались к небу, и казалось, что они освещают весь мир. Огненная иллюминация, оставившая яркий след в душе ребенка, становится символом Света Воскресения Христова.
В рассказе «Тетя Саша» (1899) описывается жизнь овдовевшего Михаила Евграфовича и его детей, воспитание которых было поручено строгой гувернантке-англичанке. Действие рассказа начинается в Великий пост, когда в Петербург к Михаилу Евграфовичу приезжает его сестра Александра. Прибывшая «с далекого юга», где весна была в полном разгаре и все дышало жизнью и радостью, героиня «эту весну везла в своей душе». Но, ступив на петербургскую землю, она увидела «серое небо, серые, угрюмые лица, серые камни тротуаров и местами обнаженной мостовой, пропитанный насквозь холодной сыростью воздух, высокие калоши, широкие зонтики… И в душе Александры Евграфовны погасло солнце, пожелтела зеленая трава»12. При встрече на петербургском вокзале она сразу замечает перемену в своем некогда жизнерадостном брате, ставшем после смерти жены угрюмым, холодным, духовно опустошенным. Утратив интерес к жизни, он полностью погрузился в работу и не общался с детьми. В доме царила атмосфера уныния и холода. Приехавшая сестра внесла тепло, уют и радость в семью. Совместное празднование Пасхи вызвало у героя счастливые воспоминания о Светлом Христовом Воскресении, всегда воспринимавшемся им как «день всеобщего братства»13.
Рассказ «Что можно видеть во сне» (1900) является пародией на жанр пасхального рассказа. В нем повествуется о двух студентах-медиках, находящихся в такой нищете, что денег не хватает даже на еду. На выручку им приходит тайный советник, который в пасхальную ночь дает им деньги и приглашает в гости. Изумленные благородным поступком чиновника студенты говорят, что «такого тайного советника можно видеть только во сне… — И, пожалуй, еще в пасхальном рассказе …» (выделено нами. — О. С .)14, — так иронически обыгрывается изобилие сюжетных штампов в данном жанре.
В «Ложном стыде»15 (1900) автор размышляет над феноменом этого чувства в связи с открытым исповеданием своей веры. Герои рассказа, находясь на чужбине, в швейцарском городе Веве, испытывают ностальгию при воспоминании о праздновании Пасхи в России и желание оказаться в храме на пасхальной службе. Независимо друг от друга они отправляются в Женеву, где есть православный храм, но при случайной встрече придумывают ложные причины своей ночной поездки, скрывая ее истинную цель. Вспоминая пасхальные традиции своей родины, герои говорят о неизгладимом впечатлении первого возгласа «Христос воскресе!», сходятся во мнении, что «вся наша культура, весь умственный багаж, все идет так, а не иначе, именно с этого поразительно-торжественного момента, когда Он воскрес…»16. Однако, беседуя таким образом, они продолжают оставаться рассудочными интеллигентами, не желающими признать, что сами испытывают непреодолимое желание «услышать что-нибудь пасхальное». Лишь во дворе церкви они со смущением признаются, что ложный стыд заставлял их молчать о желании по-православ-ному встретить Пасху.
Рассказ заставляет задуматься о важности для христианина открытого исповедания своей веры, заповеданного Христом: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:38). Блаженный Феофилакт Болгарский дает следующее толкование этим словам: «Не довольно одной внутренней веры: требуется и исповедание уст. Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто "постыдится" исповедать Распятого Богом своим, того и Он "постыдится", признает недостойным рабом Своим, когда "приидет" уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде и за которое некоторые стыдятся Его, но "в славе" и с воинством Ангельским»17.
В рассказе «Дешевая покупка» (1902) изображены прозябающие в нищете вдова и дочь обанкротившегося фабриканта Ряжкова. За четыре года, прошедших после смерти главы семейства, они встречали от людей лишь презрение и грубость. В дочь фабриканта Веру когда-то был влюблен Агафонов, прежде работавший «маленьким приказчиком» на фабрике ее отца; но девушка не замечала влюбленного молодого человека. Случившийся промышленный кризис сломал много судеб, но Агафонов, в первое время растерявшийся, вскоре нашел себе место в банке. Целеустремленный и предприимчивый, он быстро продвинулся по служебной лестнице, став начальником отдела и скопив довольно большую сумму денег. Случайно увидев снова Веру, он понял, что продолжает ее любить, и решился познакомиться с ней, прибегнув к небольшой уловке. С пятьюстами рублями, которые по тем временам составляли большую сумму, он пришел домой к Вере и ее матери, назвав целью своего визита возврат денег, якобы взятых некогда в долг у Ряжкова. Это поступок растрогал женщин и расположил их к Агафонову. На Пасху Вера и Агафонов вместе ходили в церковь, а через три месяца поженились — «и в душе своей Агафонов справлял годовщину своего счастья не в день венчанья, а в пасхальную ночь, когда они впервые стояли рядом у заутрени, когда ему чудилось, что сам Бог благословляет их брачную жизнь и невидимые ангелы поют свадебные гимны»18. В рассказе развиваются мотивы «неис-поведимости путей Господних», благородного поступка, великодушия, божественного благословения.
В рассказе «Воистину воскрес» (1903) описываются отношения верующей Люлюси и ее неверующего друга детства Макса Стромилова, не видевших друг друга восемь лет. Категорически не приемлющая безбожия девушка отказывается общаться со Стромиловым. Переживая разлад в отношениях с подругой, он идет на пасхальную службу, где проникается ее необыкновенной умиротворяющей атмосферой. Кульминацией рассказа является описание Люлюси, стоящей на коленях и с искреннею верою смотрящей на растворенные Царские врата: «Казалось, она видела там как бы объясненную тайну, и на лице ее сияла радость. И Стромилов, помимо своей воли, тоже начал смотреть туда, и у него явилось такое чувство, как будто взгляды их встретились, — не здесь, а там, куда они были направлены с упованием»19. В церкви душа Стромилова воскресает. В нем зарождается чувство глубокой личной сопричастности празднованию Светлого Христова Воскресения. Он признается, что в его «душе воскрес Христос»20. В рассказе развивается мотив прощения. Во время христосования Люлюся, глядя на Стромилова, чье лицо печально, как «у падшего ангела, который еще не потерял надежду на прощение»21, всем сердцем прощает друга, с радостью понимая, что произошло воскрешение его души.
В рассказе «Тетя Оля» (1906) звучит добрая ирония, связанная с наивным детским восприятием мира. Герой рассказа восьмилетний Володя узнает, что на Пасху в гости должна приехать его родная тетя Оля, о существовании которой он не подозревал. Желая узнать о гостье, он расспрашивает няню, которая сообщает ему, что Оля окончила гимназию с золотой медалью и продолжила обучение в Петербурге. По словам няни, Питер — «холодный, ледяной город», с домами «не из камня и не из дерева, а изо льда»22, и люди, живущие там, ученые, но «такие холодные, да суровые, да страшные, никого не любят и в Бога не веруют, отцов и матерей родных не почитают» ( Нива, 1906: 201), и всё курят. Богатое воображение мальчика нарисовало «удивительно страшный образ, от которого становилось жутко» ( Нива, 1906: 201). Он представил себе, что за праздничным столом в кругу их семьи будет сидеть «высокая, сухая, волосатая, скуластая особа, начиненная ученостью, как поросенок кашей, с огромной медалью на груди, страшная» ( Нива, 1906: 202), с большими костлявыми ногами; и в то время, как другие будут христосоваться, она будет курить.
Володя был огорчен и напуган этим образом. Реальная тетя Оля — очаровательно улыбающаяся худенькая дама — никак не вязалась со страшной картинкой, порожденной детским воображением. Володя сразу полюбил тетю Олю, от которой узнал, что «Петербург вовсе не такой уж ледяной город, как он рисовал себе его со слов Трофимовны, что там есть много светлых храмов, в которых люди учатся наукам, что тетя Оля скоро будет лечить людей, помогать страждущим» ( Нива, 1906: 202), и когда она об этом говорила, в ее глазах загорался «тихий радостный свет, и от этого света ему становилось тепло» ( Нива, 1906: 202).
Рассказ «Самый счастливый» (1907) стоит особняком в ряду пасхальных рассказов Потапенко. В нем изображены живущие на подаяние слабоумный деревенский паренек Митюха и его парализованная мать. Единственный день в году, когда они полностью сыты, — это Пасха. Кульминацией рассказа является описание угощения Митюхой своей больной матери пасхальными лакомствами, полученными в церкви от прихожан: накормив мать, он стал есть сам, а потом заснул, и «сон его был превосходен. В этот день Митюха был самый счастливый человек во всем селе»23. Несмотря на обилие пасхальной атрибутики и жизнерадостных картин празднования Пасхи в деревне, рассказ производит удручающее впечатление, поскольку ожидаемого чуда не происходит, потребность читателя в счастливой развязке остается неудовлетворенной.
Рассказ «Чукчин зàмок»24 (1908) захватывает внимание читателя и вызывает улыбку. В нем представлены эпизоды из детства восьмилетнего Вали и его семилетней сестры Веруньки, способной сочинять сказочные истории. Животные, жившие в их дворе, становились персонажами ее сказок. Самым популярным был боров по кличке Чукча. Он существовал на
«привилегированном положении»25, поскольку дети, упросившие взрослых оставить его в живых, заботились о нем. Но наконец благоволение взрослых закончилось, и было решено к Пасхе его заколоть. Дети, узнав об этом, спрятали Чукчу в саду в дупле дуба, которое Верунькой было названо «Чукчин зàмок». Исчезновение Чукчи вызвало переполох в поместье, стали поговаривать, что животное «чувствует, какая его ожидает судьба» (129). На праздник дети выпустили Чукчу, чье появление во дворе произвело сенсацию: все удивлялись необыкновенному поведению борова, «знавшего», когда уйти и когда прийти. Работник Софрон заявил, что Чукча пришел поздравить с праздником Воскресения Христова. С этого дня, благодаря находчивости детей, Чукча еще «долго жил на свете» (133).
Сюжетной основой рассказа «Бабушкины сказки» (1909) является воспоминание автора-повествователя о своем детстве, ярчайшим событием которого стало духовное преображение его восемнадцатилетнего брата Геннадия — удивительно умного и талантливого гимназиста, но «безбожника и нигилиста»26. Геннадий называл религиозные чувства «бабушкиными сказками», и его неверие расстраивало всю семью, особенно младшего брата, который в пасхальные дни испытывал чувство «всеобъемлющей мировой радости и красоты» (Нива, 1909: 246), а пасхальный колокольный звон воспринимал как торжественный гимн, в котором сливаются «ликования земли и неба» (Нива, 1909: 243). Посещая церковные службы, он не думал о спасении своей души, поскольку был еще мал. Но его «охватывала мистическая поэзия слабых огоньков лампады, струек благовонного дыма, подымавшегося от кадильницы, высоких сводов, в таинственной полутьме которых реяли бесплотные ангелы…» (Нива, 1909: 243). Ребенок был уверен, что неверующий Геннадий «лишает себя величайшего блага» (Нива, 1909: 243). Однако в пасхальную ночь, когда все уехали в церковь, с Геннадием произошло нечто, что преобразило его духовно, и он, просвещенный благодатью, отправился в храм, чтобы вместе со всеми прихожанами праздновать Пасху. Писатель не объясняет причины внезапного духовного просветления героя, заставляя читателя верить в чудо и непостижимость Божьего Промысла о человеке. Внезапность духовного прозрения героя характерна для русской духовной традиции, которая «во все исторические периоды знает множество случаев внезапного (чудесного) духовного пробуждения и прозрения» [Есаулов, 1994: 46–47].
В рассказе «Три Пасхи» (1910) представлена духовная эволюция человека, прошедшего путь от детской веры, искренней и живой, до взрослой, рационально-равнодушной. Воспоминания о детстве и юности вновь становятся сюжетной основой рассказа. Герой, от лица которого идет повествование, предстает в его начале легкомысленным шестилетним мальчиком, детство которого «проходило шаловливо, шумно, радостно»27. Вместе с сестрой он посещал по воскресеньям церковь, куда водила их мать, на литургии дети скучали и при первой же возможности старались покинуть храм. Мальчика учили многому, но все «слегка касалось» его души и «отлетало от нее, не оставляя почти никакого следа» ( Нива, 1910: 298), кроме одного переживания, связанного с евангельским повествованием о Христе.
С Евангелием познакомила мальчика его мать — светская женщина, не отличавшаяся глубокой религиозностью и пораженная впечатлением, которое произвела на ребенка евангельская история. Страдания Христа так потрясли мальчика, что он плакал, подавленный ужасом и состраданием. На Страстной неделе он каждый день ходил в церковь на все церковные службы и с чутким вниманием прислушивался к словам, которые в эти дни читались и пелись в церкви, не понимая еще церковнославянский язык, но сердцем прозревая все происходившее на богослужениях. Пламенное воображение рисовало ему все события последних дней Христа так живо, словно они происходили перед ним. Ребенок видел, «как Он, добрый, кроткий и весь светящийся божественным светом, сидел со Своими учениками за длинным столом, как Он, взойдя на Масличную гору, скорбно смотрел на восток, воздевая руки и тихо роняя на землю слезы…» (Нива, 1910: 298). Внутренним взором он видел Гефсиманский сад, ворвавшуюся толпу и Иуду, поцелуем предающего Христа. Видел, как Его били и оскорбляли, и «рыдал настоящими неудержимыми слезами, когда видел Его распростертым на кресте, с пригвожденными к дереву руками и ногами, и трепетал от ужаса, когда даже солнце, пораженное жестокостью людей, померкло…» (Нива, 1910: 299). С субботы на воскресенье он также живо переживал радость, представляя, «как ангел отвалил камень от Его могилы, и как Он, воздушный и светлый, как утреннее облако, поднялся из гроба…» (Нива, 1910: 299). Подобные переживания, связанные со Страстной седмицей и Пасхой, герой испытывал еще два года, до поступления в пансион одного привилегированного учебного заведения в Петербурге, где из него изгнали «чувствительность, откровенность, доброту, даже простую вежливость» (Нива, 1910: 302). В четырнадцатилетнем возрасте он был совсем не похож на того мальчика, «который, слушая чтение о великих страданиях Бога, замученного людьми, плакал искренними и горячими слезами» (Нива, 1910: 302). Приехав в родное поместье и посетив в Страстной четверг церковь, он «стоял холодный и равнодушный, как мраморное изваяние» (Нива, 1910: 302). Гордость, скепсис, чувство стыда не позволяли ему молиться и вставать на колени, как весь народ в церкви. В пасхальную ночь он также не ощутил радости. Пасха для него стала «скучным» праздником, отмечаемым только по традиции.
Перед читателем предстают эпизоды из жизни героя: карьера чиновника, женитьба, поездки с женой за границу, служба. Сам герой уже не юноша в «свеженьком мундирчике» (Нива, 1910: 302), а «полинялый», «выцветший» петербургский чиновник «с предстоящей блестящей карьерой и с истоптанной, как старая калоша, душой…» (Нива, 1910: 306). Он осознает, что состоит на государственной службе «и потому обязан говеть» (Нива, 1910: 306), присутствовать в пасхальную ночь в «фешенебельной» церкви, а наутро наносить визиты «нужным» официальным лицам. И «в самый разгар этих решительно никому не нужных разъездов, между двумя визитными пунктами» (Нива, 1910: 306) перед его внутренним взором возник «знакомый, но забытый пейзаж»: церковь и семилетний мальчик, искренно сопереживающий Страстям Господним. Этот мальчик, каким когда-то был «полинялый» чиновник, стал голосом его совести, вопрошавшей, в угоду чему он «принес в жертву свою душу, свою человеческую сущность, лучшее, чтò <…> было» (Нива, 1910: 306). И ему «нестерпимо захотелось выскочить из экипажа, броситься на шею первому встречному и, лобзая его, воскликнуть: "Христос воскресе"!» (Нива, 1910: 306). Но развязка прозаична: герой не выскочил из экипажа и не совершил никаких эпатажных действий, он продолжил наносить визиты. Чуда духовного преображения на этот раз не произошло.
Рассказ «Третейский суд» (1911) носит юмористический характер. События, начавшиеся в Страстной четверг с забавного пари подвыпивших товарищей, завершаются на Пасхальной неделе. Необычное пари, заключенное между приказчиком Оглоблиным и писарем Мармидонтовым, состояло в определении победителя, приготовившего самого вкусного пасхального поросенка. Участницами кулинарного «поединка» объявлялись их жены, в качестве экспертов-дегустаторов приглашались бухгалтер и письмоводитель, а в суперарбитры был избран дьяк. Супруги спорщиков были в хороших отношениях, всегда делились между собой хозяйственными секретами, «но спор, возникший между мужьями, поставил между дамами в этом отношении как бы стену»28. Поэтому на этот раз секреты приготовления особой начинки и способы поджарки поросенка «до румяности», которыми каждая из них владела, остались утаенными друг от друга. «Суд» происходил во время праздничного застолья, сначала у одного из спорщиков, потом у другого. Сочиненный дьяком хитроумный приговор, предписывавший участницам кулинарного состязания взаимообмен кулинарными секретами, доставил удовольствие всем.
Пасхальные рассказы Потапенко имели неизменный успех у читательской публики. В периодической печати охотно публиковали произведения писателя: в частности, в журнале «Нива» его сочинения, приуроченные к Пасхе, печатались практически ежегодно. Созданные в жанре «пасхального рассказа», его произведения в полной мере соответствуют духовному пафосу русской литературы, которая по сути своей православна, т. е. была и остается «пасхальной, спасительной и воскрешающей "мертвые" и грешные души; она соборна, в ней Благодать всегда выше Закона» [Захаров, 2012: 144]. В них отражена христианская концепция человека, сложившаяся в православии: с ее идеями спасения души, покаяния, искупительного страдания и духовного преображения. Пасхальные рассказы Потапенко назидательны и проникновенны, умиляют и трогают читателя, находят путь к его сердцу благодаря особой задушевности и искренности, напоминают о евангельских ценностях, заставляют задуматься о смысле жизни, предостерегают, что нельзя пренебрегать спасением души в угоду земному благополучию.
Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 32–60 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2372 (25.11.2022). DOI: 10.15393/ j9.art.1994.2372. EDN: RUYJQN