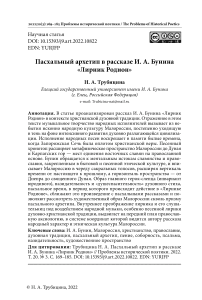Пасхальный архетип в рассказе И. А. Бунина "Лирник Родион"
Автор: Трубицина Наталия Алексеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован рассказ И. А. Бунина «Лирник Родион» в контексте христианской духовной традиции. Отраженное в этом тексте музыкальное творчество народных исполнителей вызывает из небытия исконно народную культуру Малороссии, постепенно уходящую в тень на фоне интенсивного развития духовно разлагающейся цивилизации. Исполнение народных песен воскрешает в памяти былые времена, когда Запорожская Сечь была оплотом христианской веры. Песенный хронотоп расширяет метафизическое пространство Малороссии до Дуная и Карпатских гор - мест единения восточных славян на православной основе. Бунин обращается к ментальным истокам славянства и православия, закрепленным в бытовой и песенной этической культуре, и вписывает Малороссию в череду сакральных топосов, расширяя вертикаль времени от настоящего к прошлому, а горизонталь пространства - от Днепра до священного Дуная. Образ главного героя-слепца (инвариант юродивого), назидательность и «душеспасительность» духовного стиха, пасхальное время, в период которого происходит действие в «Лирнике Родионе», сближают это произведение с пасхальными рассказами и позволяют рассмотреть художественный образ Малороссии сквозь призму пасхального архетипа. Внутреннее преображение лирника и его слушательниц под воздействием народной музыки, особенно песенной лирики духовно-христианской традиции, выдвигает на передний план православную аксиологию, в системе координат которой видится автору рассказа народный характер и этническая культура Малороссии.
И. а. бунин, малороссия, христианство, православие, духовная традиция, пасхальный архетип, пение, соборность, псальма, назидательность, художественное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/147238870
IDR: 147238870 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10822
Текст научной статьи Пасхальный архетип в рассказе И. А. Бунина "Лирник Родион"
Н а рубеже ХХ–ХХI веков в отечественной филологии обозначились новые научные подходы к изучению русской литературы, среди которых особое место заняли методологии, направленные на выявление в художественных текстах духовно-религиозной проблематики. Научные труды М. М. Дунаева, А. М. Любомудрова, В. Н. Захарова, И. А. Есаулова стали методологической основой для литературоведческих исследований, посвященных христианской духовной традиции в творчестве отечественных и зарубежных писателей. Так, В. Н. Захаров полагает, что «у русской словесности глубокие тысячелетние корни и лежат они в христианской православной культуре» [Захаров, 1994b: 11], а «путь русской литературы в ее высших свершениях последних столетий — это путь обретения русским реализмом Истины, которая явлена Христом и “бысть Словом”» [Захаров, 2001: 20]. К основным признакам жанра пасхального рассказа исследователь относит «приуроченность времени действия к Пасхальному циклу праздников и “душеспасительное” содержание» [Захаров, 1994a: 256].
Определение «пасхального архетипа» дает И. А. Есаулов в монографии «Пасхальность русской словесности»: «Пасхальный архетип русской словесности проявляет себя главенством сверхзаконной Благодати над земным Законом; иконичности над иллюзионизмом; на “неофициальном” же уровне культуры — доминированием юродства над шутовством; святости как ориентира жизни над “нормой” и другими культурными следствиями» [Есаулов, 2004: 22]. Автор настаивает на том, что «пасхальный архетип проявляет себя не в мировоззрении писателей и, тем более, не в их идеологии, не в публицистике, а именно в поэтике , в структуре самого художественного текста» [Есаулов, 2009: 171].
Опираясь на концепцию И. А. Есаулова, к понятию «пасхального архетипа» обратились в своих статьях отечественные и зарубежные исследователи: Р. Н. Спото «Пасхальный архетип и модель культуры в романах Джона Стейнбека» [Спото], С. Г. Комаров «Пасхальный архетип в драматических притчах Джона Ардена и Брайена Фрила» [Комаров], Е. А. Барская «Изучение автобиографической прозы И. С. Шмелева через обращение к пасхальному архетипу (на материале рассказа
“Весенний ветер”)» [Барская], Т. Н. Козина «Эволюция пасхального архетипа» [Козина: 2] и др.
Несмотря на отсутствие четкой и однозначной религиозной позиции И. А. Бунина, О. А. Бердникова отмечает, что его поэзия «особенно наглядно и убедительно свидетельствует об адекватности воплощения духовных смыслов христианских идей в художественных образах» [Бердникова: 245]. На наш взгляд, в «Лирнике Родионе» писатель репрезентирует художественный образ Малороссии, опираясь на духовные смыслы православия.
Рассказ «Лирник Родион» связан с реальным событием из жизни писателя; им была совершена третья поездка по Малороссии в конце мая 1896 г. по маршруту: Полтава, Кременчуг, Екатеринослав, Днепровские пороги. Во время этого путешествия Бунин записал южнорусский стих — «Псальма про сироту», указав исполнителя: «Киевская губ., Васильковский у., Рокитянского стану, с. Ромашек. Родион Кучеренко. Записано на Днепре 1896 г.»1. Данный факт биографии и лег в основу рассказа, написанного Буниным в 1913 г. на Капри.
Биографическая основа произведения позволяет обратить особое внимание на авторскую установку проникнуть в экзистенциальную сущность территории, попытаться понять ее изнутри:
«Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его»2.
Современное Бунину толкование Малороссии дает «Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона»: «Под именем Малороссии разумеются обыкновенно нынешняя Черниговская и Полтавская губернии, но в историческом смысле понятие Малороссии гораздо шире; она обнимала собою, сверх того, теперешний Юго-Западный край (то есть губернии Киевскую, Подольскую и Волынскую), заходя порой и в теперешнюю Галицию, Бессарабию, Херсонщину»3.
В «Лирнике Родионе» автор маркирует пространство Малороссии реальными топонимами: из Полтавщины начинает свое путешествие рассказчик, «от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам» (177) странствует Родион, вспоминают Киев плывущие на пароходе по Днепру в районе херсонских плавней женщины, и, наконец, в Никополе записывает герой-рассказчик псальму про сироту. На пути Родиона писатель выделяет незначительные, небольшие по территории города и села по левой и правой стороне Днепра.
Как отмечают этнографы, «в сфере поэтического творчества малорусский народ имеет мало себе подобных. <…> Мягкость характера, в связи с непрактичностью, во время невзгод его исторической жизни часто делали его страдающим и угнетаемым, неудачником, что и отразилось в нотках тихой грусти, меланхолии, звучащих в его поэзии, а еще больше в музыке»4. В рассказе «Лирник Родион» Бунин определяет пение малороссов в контексте целостного бытия, не только как феномен музыкальной культуры, но как концепцию жизненных смыслов:
«Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью» (179).
Весь период жизни малоросса, от рождения до смерти, определяется не просто через традиционные православные ценности: труд, любовь, семья, — но и углубляется категорией служения, через которую народ приближается к идеалу святости, к пр евалированию Благодати в главных поступках.
Бунин изначально видит в народе Малороссии высокие моральные качества; по мнению автора, их необходимо лишь поддерживать: напоминать людям о важности веры, праведной жизни, сострадании. В обычной жизни эту функцию берет на себя церковь. Но есть еще и особая категория людей, в другом качестве продолжающих эту традицию, — юродивые. И. А. Есаулов отмечает: «В целом пасхальный характер юродства проявляется, очевидно, в том, что люди должны помнить об из-гнанности из рая и не принимать здешний земной мир — даже после явления в нем Христа — за этот рай. Спасение “куплено” ценою Распятия: надеющимся на воскресение следует всегда помнить об этом» [Есаулов, 2004: 164].
Главный герой рассказа — слепец. Автор выделяет его среди других странствующих «калик перехожих»:
«Слепые народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность» (179).
Тем не менее по статусу Родион относится к разряду юродивых, и пусть в малой части, но все же наследует особенности девиантного поведения этой социальной группы. После того как рассказчик записывает со слов лирника псальму, тот «с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы»:
«Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее» (185).
В поступке Родиона соединяется традиционное для нищих выпрашивание подаяния с неподдельной кротостью и смирением. Целование руки священника в православной традиции есть целование руки благословляющей, как бы невидимой руки Иисуса Христа. Родион смиряется до целования руки простого человека, просто оделившего странника милостыней, видя в этом руку Спасителя. В таком поведении он сближается с кроткими блаженными, наследующими Благодать.
Родион вместе с женщинами-«хохлушками» представляет собой антропологическую составляющую художественного образа Малороссии; своей обыденностью и простотой он и его попутчицы противопоставляются автором остальным пассажирам судна:
«В первом классе “Олега” никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно небритый, нищий актер» (177–178).
Капитан, девица, актер, «несколько евреев» — все они как бы в стороне от основного события: исполнения лирником псальмы. По окончании исполнения духовного стиха Родионом, и глубокого эмоционального отклика на псальму со стороны женщин, автор заметил:
«Актер спал, прислонясь к скамейке. Всходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне» (184).
Родион и женщины, которых «набилось душ полтораста», плывут на нижней палубе:
«Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели» (178).
Определив женщин как «души», автор дает понять, что не только профанный мир входит в сферу их жизненных интересов.
Песенный репертуар лирника широк и разнообразен: он «пел и “псальмы”, и “думы”, и любовное, и “про Хому”, и про Поча-евскую Божью Матерь» (179). Не уступают ему и женщины:
«В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, — “ой ти, сыну, мiй сын, ты, дытына моя!” — долго не запевали другой; запели-было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили» (180).
Видя в соборности выражение одной из фундаментальных особенностей православного пасхального архетипа, И. А. Есаулов отмечает особую роль русского хорового пения в понимании этого феномена. Подводя итоги размышлений о гетерофонии у П. А. Флоренского, он пишет: «Конечно, “хоровое начало” здесь — это начало соборное, “внутреннее”, противостоящее как “внешним рамкам” застывшего “юридизма”, так и иным формам “подчинения” личности подавляющей ее внешней силе» [Есаулов, 1995: 23].
Плывущие на пароходе женщины вынуждены были покинуть свои дома в поисках временного заработка в других краях, они тоскуют по родному месту. Согласуясь с ностальгическим настроением своих попутчиц, Родион запевает песню «еще более старинную» (180) — «край Дунаю трава шумить». Скорее всего, Бунин имел в виду известную рекрутскую казачью песню «Вітервіє, трава шумить» — с традиционным мотивом прощания воина с жизнью на поле боя, когда рассказать «всю прав-доньку» о своей кончине «стара мати» он посылает своего коня. В песне казак умирает за «религиозные принципы» и поэтому не сомневается, что после смерти обязательно воскреснет.
Упоминание Буниным в названии песни Дуная, реки реальной и мифической географии, часто появляющейся в восточнославянском фольклоре и его авторских переложениях (например, широко известный романс «Їхав козак за Дунай», написанный казаком Семеном Климовским в середине XVIII века), можно принять за попытку топографически маркировать более широкий ареал исторической родины. Об этом же косвенно свидетельствует и следующее размышление автора:
«Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древне-славянская синь Карпатских высот» (179).
«Дни Богдана» и «дни Сечи» — период казацкой вольницы, время полной культурной самоидентификации, независимо от подданства, время Тараса Бульбы, время борьбы за православную Русь, время не только метафизической, но и реальной смерти за праведную христианскую веру. Сечь являлась свободной военной общиной, доступ в которую был открыт всем мужчинам; единственным условием была принадлежность к православной церкви. Женщины в Сечь не допускались;
вступавшие в общину казаки должны были на время расстаться с матерями и женами, отказаться от обыденной жизни. Поэтому в бунинском рассказе пение бандуристов и лирников наводит «мужчин на воспоминание о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми» (179).
Географически Запорожская Сечь расположена в нижнем течении Днепра, в степной сухой равнине Причерноморской низменности. Метафизически она как бы прирастает Карпатами, не столько реальными, сколько сказочными, легендарными, как горизонталь — вертикалью, земля — небом. Самоидентификация Сечи по религиозному признаку, лишенная, однако, строгой церковной нарочитости, дает возможность искать корни малороссийского православия в «древне-славянской сини Карпатских высот». Полагается, что восточные славяне Закарпатья приняли православие раньше Киевской Руси, уже к концу IX в., благодаря ученикам Кирилла и Мефодия, изгнанным из Моравии и нашедшим приют на закарпатской земле.
Горы как изначальное «место Силы» распространяют эту силу дальше, питают древнего человека, но со временем бытие дробится, мельчает, и былая мощь человечества остается в прошлом, о ней свидетельствуют только старинные песни и легенды. Эту мысль писатель раскрывает на примере не только малорусского народа, но и всякого другого (например, еврейского5), опираясь в своем творчестве на такие метафизические категории как «память» и «прапамять».
Дихотомия измельчания былого величия подчеркивается Буниным названием парохода, на котором происходит действие рассказа — «Олег» (это имя великого князя, перенесшего столицу из Новгорода в Киев и объединившего тем самым два центра восточных славян; его имя широко известно по исторической балладе Пушкина), и настоящим состоянием этого судна:
«… плыл я на этом “Олеге”, очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышевых зарослей и полноводных затонов» (177).
«Гоголевский» полноводный Днепр, в свою очередь, выступает контрастом вечной, могучей и прекрасной природы и постоянно меняющейся историко-культурной обстановкой малороссийской земли.
Храм в мироощущении православного человека является местом соборного единения. В «Лирнике Родионе» образ храма возникает в разговорах женщин, вспомнивших о Киеве, который представлен в рассказе только храмово-церковной составляющей:
«Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение (лучины, похожей на свечу. — Н. Т .), заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве, — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви» (180–181).
Присутствие мотива «Страшного суда» отсылает нас к православному покаянию, ибо, как отметил И. А. Есаулов, «надежда на воскресение немыслима без осознания личной греховности» [Есаулов, 2004: 45–46]. Художественная дихотомия «удивления» и «ужаса» связана со смертью и возможностью ее преодоления через воскресение. Киев маркируется как место нравственного выбора, духовного противостояния добра и зла, верха («златоверхие колокольни») и низа («полуподземные приделы»).
Киев — точка бифуркации, неуравновешенности системы, с которой можно вернуться назад, к обыденности, к мещанским или бытовым песням, или же пойти дальше по пути очищения и приобщения к Благодати. И Родион, как чуткий представитель «юродивой общины», улавливает тот нужный момент, когда следует напомнить слушательницам о нравственной ответственности человека за свое бытие:
«Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, чтó именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами» (181).
Так появляется в рассказе духовный стих (текст в тексте), обладающий определенными особенностями пасхального хронотопа. Характеризуя средневековое чувство географического пространства, Ю. М. Лотман отмечал: «Земная жизнь противостоит небесной как временная вечной и не противостоит в смысле пространственной протяженности. Более того, понятия нравственной ценности и локального расположения выступают слитно: нравственным понятиям присущ локальный признак, а локальным — нравственный. География выступает как разновидность этического знания» [Лотман: 298].
Пространство вставного текста представлено домом мачехи, дорогой, могилой, раем и адом. В псальме про сироту дом мачехи — место не просто духовной черствости, отсутствия сострадания, но еще и вопиющей несправедливости:
«— Що cipoта робить — работа нi за що, а людi говорять: cipoтa ледащо!» (182).
То есть не только в семье, но и в обществе сирота не находит понимания и заступничества. Концепт «дом», традиционное значение которого — место защиты и уюта, через образ мачехи делается пространством неродным, «антидомом». Родное связано с образом матери, в поисках которой «пiшла cipiткa темнымi лугами, — вмиваеться cipiтка дрiбнимi сльозами. Не могла cipiткa мачусi вгодити, — ой пiшла cipiткa по свiту блудiти: по cвiтy блукати, матинкi шукати…» (182).
Появление в сюжете воскресшего Христа вполне органично для произведений, наследующих народную духовно-песенную традицию. Христос — Бог живых, и Его вмешательство в земную жизнь человека может происходить в любое время и в любой форме. Встречается «с Самим воскресшим Господом» и сирота псальмы. Узнав, что идет она «матери шукати», Господь отговаривает ее от поисков, так как «бо твоя матинка на високiй гopi, тiло спочиває у смутному гробi…» (182). Однако он не лишает ее возможности «горькой размовы» с умершей матерью, за которую из могилы отвечает ангел: «Обiзвався
Янголь, як рiдная мати» (183). На просьбу сироты взять ее к себе он отвечает:
«Слiпилися очi,
Вже й на свiтъ не гляну!
Ох, якъ тяжко, важко
Камiння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к coбi взяти!
Нема тутъ, ciрiтка, Hi ïcтi, нi пiти…» (183).
Потусторонний мир могилы представляет собой земной антимир. Он не соотносится ни с раем, ни с адом. Это именно загробное пространство, где более нет возможности искупления грехов. Поэтому ангел голосом матери призывает сиротку к смирению и добродетели:
«Пiшла бъ ти cipiткa,
Мачусi бъ просила:
Може-бъ змiлувалась —
Сорочку пошила…
И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок Ангелу-матери:
— Я жъ ïi просила, я жъ ïi годила. А злая мачуха сорочки не шила!» (183).
Здесь повторная отсылка к неправедному дому, где смирение и добродетель попираются. Как указывал Ю. М. Лотман, «из идеи о том, что локальное положение человека в пространстве должно соответствовать его нравственному статусу, с неизбежностью вытекала популярная в средневековой литературе ситуация: праведник, взятый при жизни в рай, или грешник, отправленный вживе в ад» [Лотман: 302]. Эта ситуация воспроизводится и в псальме:
«…вiзьмiть ту сiрiтку, посадить сiрiтку у свiтлому раю, у Госпо-да-Бога, у честi i славi! <…>
Посилає Богъ зъ пекла
По злую мачуху, По злую мачуху I по ïi духу:
Пiднiмiть мачуху У гору высоко, Закiньте мачуху У пекло глибоко!» (184).
Оканчивается же псальма нравственным наставлением: «Слухайте жъ, люде: хто cipoти має, нехай доглядає, на путь наставляє»(184). В народном духовном стихе, согласно средневековой традиции, не призывают любить и баловать сирот; необходимо лишь присматривать за ними и наставлять на истинный путь во избежание греха.
Псальма про сироту наследует пасхальную модель христо-центризма. И. А. Есаулов, сравнивая рождественский и пасхальный архетипы, отмечает: «Рождество, в отличие от Пасхи, не связано непосредственно с неотменимой на земле смертью. Рождение существенно отличается от Воскресения. Приход Христа в мир позволяет надеяться на его обновление и просвещение. Однако в сфере культуры можно говорить об акцентировании земных надежд и упований, разумеется, освещаемых приходом в мир Христа; тогда как пасхальное спасение прямо указывает на небесное воздаяние» [Есаулов, 2004: 21–22]. В псальме заявлена христианская максима: можно попасть «вживе» в рай, а можно — в ад. Родион доносит ее до своих слушательниц не только словами, содержанием стиха, но и музыкальным исполнением, когда сквозь «степную меланхолию мотива» проступает подобие «органного хорала» (181).
На пароходе Родион и женщины как бы исподволь образуют собой малую церковь, пусть без материальных храмовых атрибутов, но зато в едином катарсисе:
«Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц» (183).
В «Лирнике Родионе» важно и художественное время событий. Они приходятся на ближайшее послепасхальное время:
«А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казáчки:
еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц» (177).
Церковное благоухание тополей, празднично белеющие села, пасхальный звон и скорлупа крашеных яиц высвечивает народное восприятие Пасхи — праздник праздников, торжество из торжеств. Природа, культурный ландшафт и персонифицированный в молодых казачках народ сливаются в единый поэтический образ Малороссии. Локализованные в пространстве нижней палубы парохода «Олег» женщины компенсируют широкое празднование Пасхи музыкой Родиона и собственным пением, духовно просветляясь и сплачиваясь.
Подводя итоги, можно сказать, что в рассказе И. А. Бунина «Лирник Родион» музыкальное творчество бандуристов и лирников вызывает из небытия исконно народную культуру, постепенно уходящую в тень на фоне духовно разлагающейся цивилизации. Исполнение народных песен воскрешает в памяти былые времена. Это «дни Богдана», когда казаки, выбирая подданство, провозгласили: «Волим под царя московского, православного» [Гумилев: 245]. Это «дни Сечи», когда цементирующим общину принципом было православие.
Песенный хронотоп расширяет метафизическое пространство Малороссии до Дуная и Карпатских гор как мест истока веры и единения восточных славян на православной основе. Это задает особый «горизонт ожидания» [Есаулов, 2004: 10]. Не являясь напрямую пасхальным рассказом, «Лирник Родион» включает в себя те самые «культурные следствия» [Есаулов, 2004: 22], которые позволяют рассмотреть художественный образ Малороссии сквозь призму пасхального архетипа. Это образ главного героя-слепца (юродивого), соборное единение через пение Родиона и его слушательниц, назидательность и «душеспасительность» духовного стиха, период Пятидесятницы, в который происходит действие рассказа.
Обращаясь к истокам славянства и православия, закрепленным уже не территориально, а ментально, в бытовой и песенной этической культуре, автор вписывает Малороссию в череду сакральных топосов, расширяя вертикаль времени от настоящего к прошлому, а горизонталь пространства — от Днепра до священного Дуная. Внутреннее преображение лирника и его слушательниц под воздействием народной музыки — и особенно песенной лирики духовно-христианской традиции — выдвигает на передний план православную аксиологию, в системе координат которой видится автору рассказа народная культура Малороссии.
pro/journal/article.php?id=2370 (accessed on May 5, 2022). DOI: 10.15393/ j9.art.1994.2370 (In Russ.) (b)
In: Semiosfera . St. Petersburg, Iskusstvo-SPb Publ., 2000, pp. 297–303. (In Russ.)
Список литературы Пасхальный архетип в рассказе И. А. Бунина "Лирник Родион"
- Барская Е. А. Изучение автобиографической прозы И. С. Шмелева через обращение к пасхальному архетипу (на материале рассказа «Весенний ветер») // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 1 (55). С. 115-118 [Электронный ресурс]. URL: http://izvestia.vspu.ru/files/publics/55/115-118.pdf (05.05.2022).
- Бердникова О. А. «Так сладок сердцу Божий мир»: творчество И. А. Бунина в контексте христианской духовной традиции. Воронеж: Воронежская областная типография-издательство им. Е. А. Болховитинова, 2009. 272 с.
- Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. М.: АЙРИС-пресс, 2016. 320 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 1995. 288 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип русской литературы как фактор жанропорождения // Дергачевские чтения-2008: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Проблема жанровых номинаций: мат-лы IX Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 9-11 окт. 2008 г.): в 2 т. Екатеринбург: Изд-во Уральск.ун-та, 2009. Т. 1. С. 164-173.
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 1994. Вып. 3. С. 249-261 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/ journal/article.php?id=2403 DOI: 10.15393/j9.art.1994.2403 (05.05.2022). (a)
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 1994. Вып. 3. С. 5-11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (05.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370 (b)
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 5-20 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica. pro/journal/article.php?id=2511 (05.05.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2511
- Козина Т. Н. Эволюция пасхального архетипа. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2019. 80 с.
- Комаров С. Г. Пасхальный архетип в драматических притчах Джона Ардена и Брайена Фрила // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2011. № 1. С. 29-34.
- Лотман Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. С. 297-303.
- Спото Р. Н. Пасхальный архетип и модель культуры в романах Джона Стейнбека // Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры: сб. докладов XXIV Междунар. Кирилло-Мефодиевских чтений. Минск: Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, 2019. С. 301-304.
- Трубицина Н. А. Геокультурный образ Иудеи в цикле путевых очерков И. А. Бунина «Тень птицы» // Фило1с^о8. 2018. № 39 (4). С. 95-99. DOI: 10.24888/2079-2638-2018-39-4-95-99