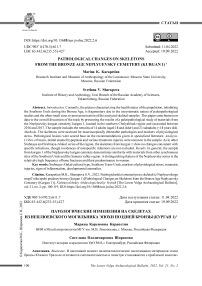Патологические изменения на скелетах из Неплюевского могильника эпохи поздней бронзы (курган 1)
Автор: Карапетян Марина Кареновна, Шарапова Светлана Владимировна
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. В настоящий момент палеопатологические исследования материалов эпохи бронзы Южного Урала не отличаются систематичностью и зачастую сталкиваются с проблемой малочисленности или плохой сохранности анализируемых серий. В итоге картина, характеризующая это население, вырисовывается не полно. Данная работа вносит свой вклад, представляя результаты палеопатологического изучения материалов из кургана 1 Неплюевского могильника (раскопки 2016-2017 гг.), расположенного на юге Челябинской области. В исследование вошли останки 14 взрослых (>18 лет) и 23 детей и подростков (
Срубно-алакульский культурный тип, южное зауралье, маркеры физиологического стресса, травматические повреждения, следы воспаления, аномалии развития скелета
Короткий адрес: https://sciup.org/149141701
IDR: 149141701 | УДК: 903'1(470.5):611.7 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.2.6
Текст научной статьи Патологические изменения на скелетах из Неплюевского могильника эпохи поздней бронзы (курган 1)
DOI:
Палеопатологические исследования материалов эпохи бронзы Южного Урала и прилегающих к нему регионов начались сравнительно недавно. Среди первых публикаций на эту тему можно отметить работу А.П. Бужи-ловой, посвященную анализу скелетных останков людей из широко известных каргалинских некрополей [Бужилова, 2005]. На момент выхода в свет этого исследования сравнительных данных по региону практически не существовало, а результаты масштабного изучения памятников эпохи бронзы бассейна р. Самары, осуществленного А. Мерфи в 1999 г., оставались неопубликованными [Murphy, Khokhlov, 2016].
В последнее время интерес к палеопатологической тематике «здоровья» начал возрастать. В частности, вышли статьи, посвященные изучению материалов из ряда могильников Нижнего Поволжья [Перерва, Капинус, 2019], Приуралья [Куфтерин, Карапетян, 2021; Karapetian et al., 2021], Зауралья [Куфтерин, Нечвалода, 2016; Луайе, Шарапова, 2017; Karapetian et al., 2021], Северного Казахстана [Ventresca Miller et al., 2014]. Обособленно стоят работы, посвященные анализу травматизма в разные периоды эпохи бронзы ВолгоУральского региона [Кузнецов, Хохлов, 1998; Хохлов, Китов, 2019; Перерва, 2020]. В отдельную группу стоит выделить публикации, сфо- кусированные на анализе детских и подростковых скелетов [Луайе, Шарапова, 2017; Куф-терин, Карапетян, 2021; Karapetian et al., 2021], что связано как с общими тенденциями в биоархеологии (см., например: [Медникова, 2017]), так и с преобладанием останков невзрослых индивидов в изучаемых памятниках. Все еще редки публикации, синтезирующие результаты палеопатологического изучения скелетных останков и археологический контекст их обнаружения. Хорошо представлен в литературе и проанализирован в максимальном объеме могильник Каменный Амбар 5, содержащий синташтинские материалы и материалы срубного времени [Ражев, Епимахов, 2005; Judd et al., 2018; Hanks et al., 2018].
В настоящий момент картина, характеризующая население эпохи поздней бронзы региона, вырисовывается не полно, что связано как с несистематичностью палеопатологических работ (по многим памятникам представлены лишь краниологические и одонтологические данные), так зачастую и с малочисленностью или плохой сохранностью анализируемых серий. Определенную роль играют и межисследовательские расхождения в диагностике и интерпретации патологических состояний на скелете. В целом во всех выборках достаточно широко распространены cribra orbitalia и гипоплазия эмали зубов (ГЭЗ), при этом большинством авторов подчеркивается отсутствие в сериях случаев цин- ги, рахита и специфических инфекций, при общей редкости случаев воспалительных проявлений на скелете.
По мнению А. Мерфи и А.А. Хохлова, население срубной культуры Самарского Поволжья жило в более благоприятных условиях в сравнении с населением ямной или потаповской культур, что, возможно, связано с его большей оседлостью. При этом представители срубной культуры обнаруживают сравнительно большее разнообразие характера травм посткраниального скелета, что может говорить о более широком спектре их хозяйственной деятельности [Murphy, Khoklov, 2016, р. 206, 208].
В настоящей работе приведены результаты палеопатологического исследования скелетных останков из кургана 1 Неплюевского могильника в Южном Зауралье. Погребальные комплексы датируются эпохой поздней бронзы: в керамическом инвентаре и обрядности доминировали традиции срубной культуры при заметном присутствии алакульских элементов [Шарапова, 2017]. Впрочем, такая ситуация характерна и для аналогичных некрополей Южного Приуралья (см., например: [Файзуллин и др., 2021]). Полевые работы на памятнике проводились в междисциплинарной парадигме, что создало условия для всестороннего анализа материалов, постепенно вводимых в научный оборот.
Курган 1 – третий раскопанный курган в могильнике, который, в отличие от первых двух (курганы 5 и 9), представляет собой многомогильный комплекс с большим количеством захоронений, кенотафов и жертвенных ям. Именно многочисленность погребенных (около 44 индивидов) позволяет нам не только описать отдельно встречающиеся в выборке патологии, но и охарактеризовать некоторые из них статистически. Палеопатологический анализ материалов курганов 5 и 9 был опубликован ранее [Луайе, Шарапова, 2017], а выборка из кургана 1 была предварительно и далеко не полно охарактеризована в первой публикации материалов [Карапетян и др., 2019]. В частности, представленные частоты по некоторым признакам (например, cribra orbitalia и ГЭЗ) являлись результатом первичных полевых / камеральных наблюдений без подробной оценки этих изменений. Разнообразие отмеченных нами патологических состояний требует более пристального внимания и обсуждения возможных диагнозов.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили останки 14 взрослых (>18 лет) и 23 детей и подростков (<18 лет). Состав индивидов, включенных в разные анализы, варьировал в зависимости от изучаемой патологии и степени сохранности. Раскопки кургана проводились с 2016 по 2017 г. под руководством одного из авторов статьи (С.В. Шараповой). На протяжении обоих сезонов в полевых работах принимали участие палеоантропологи (Ж. Луайе – 2016 г.; М.К. Карапетян – 2017 г.), что позволило уточнить факторы, влияющие на целостность скелета, еще на стадии раскопок.
Скелеты оценивались на предмет всех возможных макроскопически определяемых патологий, а также маркеров физиологического стресса. Однако в силу ограниченности объема статьи в работе намеренно не обсуждаются зубные патологии (за исключением ГЭЗ), тесно связанные с рационом питания, а также дегенеративно-дистрофические изменения суставов, анализ которых осмыслен только в их возрастной динамике. Специально не обсуждаются и маркеры физической активности (occupational stress markers).
Пол взрослых индивидов оценивался по стандартным рекомендациям [White, Folkens, 2005, p. 385–398] при наличии таза и/или черепа. Если они отсутствовали или были сильно фрагментированы, пол оценивался по размерам длинных трубчатых костей [Синева, 2013] с учетом наблюдаемых для изучаемой выборки различий между мужчинами и женщинами. Возраст взрослых индивидов оценивался комплексно по морфологическим изменениям лобкового симфиза, ушковидной поверхности тазовой кости, степени облитерации швов черепа и стертости коронок зубов [White, Folkens, 2005, p. 369– 371, 378–379, 382–383]. Возраст детских и подростковых останков определялся по степени развития зубной системы и скелетной зрелости [Schaefer et al., 2009].
Регистрация признаков и дифференциальная диагностика осуществлялись с использованием специализированной литературы [Ortner, 2003; Mann, Hunt, 2005; Lewis, 2018]. Рентгенография выполнялась в случаях, когда это было необходимо для подтверждения диагноза (например, при переломах). Рентгенографические исследования проведены в НИИ и Музее антропологии МГУ (г. Москва) на микрофокусном рентгеновском аппарате ПРДУ-02.
Анализ
В выборке зафиксированы патологии, относящиеся к следующим категориям: маркеры физиологического стресса, травматические повреждения, следы воспаления и аномалии развития скелета.
Маркеры физиологического стресса
В таблице 1 представлены частоты ряда признаков, включенных в данную категорию. Наиболее часто встречающимся маркером физиологического стресса в группе была линейная ГЭЗ. На передних зубах она встречалась примерно у 50 % обследованных, причем с одинаковой частотой у взрослых и невзрослых. На втором месте по частоте встречаемости ожидаемо находилась cribra orbitalia в детской и подростковой выборках. Следует заметить, что поротические изменения в глазницах наблюдались с гораздо большей частотой (46 % случаев), чем приведенные в таблице частоты cribra orbitalia. Однако отнесение некоторых из них к cribra orbiralia было под сомнением, а у взрослых часть поротических изменений может представлять остаточные следы перенесенного в детстве состояния (рис. 1). После исключения всех сомнительных случаев активная cribra orbitali a наблюдалась у трех индивидов – все на черепах детей старше 4 лет. Изученная выборка по частоте cribra orbiralia ближе к синхронным группам Cамарского Поволжья (38 % у невзрослых и 18 % у взрослых [Murphy, Khokhlov, 2016]), а по частоте гипоплазии – к детям и подросткам Приуралья (наблюдалась у 56 % индивидов [Karapetian et al., 2021]).
Явных случаев поротического гиперостоза свода черепа в анализируемых материалах не отмечено 2. В то же время у ребенка (0–1,5 года), чьи немногочисленные фрагментированные останки были расчищены в одном из сосудов в яме 9, наблюдались изменения на эктокране, по локализации и внешнему виду согласующиеся с этим диагнозом. В частности, у него выявлены поротические изменения на поверхности левой теменной (правая сильно фрагментирована), верхней части лобной и затылочной костей (рис. 2). К сожалению, ни лицевые кости, ни кости посткраниального скелета не сохранились, что не позволяет исключить другие патологические состояния, также способные приводить к по-ротическим изменениям на черепе (например, инфекцию) [Ortner, 2003, p. 102, 370; Lewis, 2018, p. 198].
Наиболее примечательным случаем в категории маркеров физиологического стресса является ребенок в возрасте около 6 месяцев из ямы 6. На его костях определяются признаки системного заболевания в виде периостальной реакции (череп и посткраниальный скелет), увеличения обхватов длинных трубчатых костей, а также характерное расширение и «рыхлость» метафизов и грудинных концов ребер (rachitic / scorbutic rosary). На рентгенограмме (рис. 3) видно разрежение кортикального слоя плечевой кости при одновременном его утолщении по сравнению с близким по возрасту ребенком из этого же кургана без признаков патологии. Видно также некоторое искривление диафиза пораженной кости и «опущение» верхнего метафиза. Аналогичная картина в той или иной степени характерна и для других длинных трубчатых костей. Хотя некоторые из наблюдаемых признаков встречаются и при цинге, в совокупности характер изменений в наибольшей степени согласуется с диагнозом рахит (см.: [Brickley, Ives, 2008, p. 41–150]).
Травматические повреждения
В изучаемой группе зафиксировано несколько переломов со следами заживления. Большинство из них наблюдались на посткраниальном скелете. Череп затронут только в одном случае – это перелом носовых костей у молодой женщины из погребения 2А (инд. 2). Насколько можно судить по небольшой выборке, у женщин процент травм в целом выше, чем у мужчин, как по индивидуальному счету (табл. 2), так и по элементам скелета (табл. 3), причем у женщин травмы обнаруживают большее разнообразие. Интересно также, что у женщин наблюдается тенденция к более частой травматизации костей верхних конечностей (табл. 3). Три из четырех женщин со следами переломов имели более чем одну травмированную кость. Наиболее яркий случай – это вышеупомянутая женщина из погребения 2А, у которой обнаружены помимо перелома носовых костей также переломы акромиона (с несращением), пятой пястной кости и второй плюсневой (со следами воспаления). Как у мужчин, так и у женщин практически все переломы костей посткраниального скелета наблюдались с левой стороны (8 из 10).
В группе детей небольшое число переломов было сосредоточено на туловище (на ребре и на левой ключице). Все они зажившие и, скорее всего, имеют случайный характер. Так, у младенцев переломы ключиц – это часто встречающаяся травма при родах [Kaplan et al., 1998]. У одного подростка – девушки 14–16 лет из погребения 26 – отмечен отрывной перелом правой медиальной лодыжки с несращением, что согласуется с более высоким процентом травма-тизации посткраниального скелета у женщин в этой выборке.
В литературе неоднократно отмечалось преобладание (и в целом невысокая частота) травм «бытового» характера на посткраниальном скелете и низкий процент боевых травм черепа в группах срубной культуры Самарского Поволжья и Южного Урала, что отличает их от представителей ряда предшествующих культур эпохи бронзы [Кузнецов, Хохлов, 1998; Бужилова, 2005; Хохлов, Китов, 2019; Murphy, Khokhlov, 2016]. По данным А.А. Хохлова и Е.П. Китова [2019, с. 277], в материалах срубной культуры среди травм черепа, интерпретируемых как результат межличностной агрессии, численно преобладают травмы носовых костей. По данным А. Мерфи и А.А. Хохлова, наиболее высокая частота переломов костей конечностей приурочена к сериям полтавкинской культуры (14,7 %), наиболее низкая – срубной культуры (4,6 %). В отличие от более ранних культур, где все травмы наблюдались на мужских скелетах, в объединенной серии срубной культуры процент травм у обоих полов был практически идентичен (4,5 и 4,9 % соответственно). В большинстве выборок эпохи бронзы наиболее травмируемыми были кости предплечья [Murphy, Khokhlov, 2016].
Помимо переломов в неплюевской выборке довольно распространены и другие изменения, ассоциированные с травматическим воздействием. В частности, наблюдается довольно высокая частота рассекающего остеохондрита ( osteochondritis dissecans ), спондилолиза (43 % взрослых костяков, при размахе изменчивости этого показателя в группах с территории Европы и Азии в 0–22 % [D’Angelo del Campo et al., 2017, p. 9–12]) и грыж межпозвоночного диска (у всех взрослых индивидов и у 2 подростков). Все эти изменения наблюдаются как на мужских, так и на женских скелетах, а некоторые и на скелетах индивидов до 18 лет. Основная масса дефектов, связанных с рассекающим остеохондритом, сосредоточена на костях стопы (4 из 6 случаев), что отличает эту выборку от синхронной детской и подростковой серии Приуралья, в которой все дефекты приходились на коленный сустав [Куфтерин, Карапетян, 2021].
Заметим, что помимо обычных узлов Шморля, как правило множественных, у многих индивидов наблюдались крупные передние межпозвоночные грыжи (рис. 4). На наш взгляд, большинство грыж межпозвоночного диска в этой выборке имеют травматическое происхождение, а не являются манифестацией болезни Шейермана. На это указывает совместное появление таких изменений со спондилолизом и признаками спондилолистеза (погр. 2А инд. 2, погр. 5, погр. 30), деформирующим спондилезом (погр. 25), рассекающим остеохондритом (погр. 2Б, погр. 26), травмами посткраниального скелета (погр. 2А инд. 2, погр. 2Б, погр. 25, погр. 26) и кортикальными деструкциями (stress lesions) в области прикрепления мышц / связок пояса верхних конечностей и плеча (погр. 2A инд. 1, погр. 5, погр. 26).
Следы воспаления (инфекции?)
Поражений, характерных для специфических инфекций, в данной выборке не зафиксировано, также как и других изменений, однозначно трактуемых как проявления инфекций. Однако в ряде случаев отмечались периостальные реакции и следы воспаления, которые могут указывать как на инфекционный процесс, так и на травматическое воздействие на мягкие ткани (табл. 4). Отметим, что диагностика неспецифических инфекций на детских скелетах крайне затруднительна ввиду отсутствия критериев, отличающих «физиологический» периостит, связанный с активным процессом роста, от периостита, имеющего патологический характер [Lewis, 2018, p. 132–133]. Нами в подсчет включены только те изменения, которые по своему характеру выбивались из общей массы наблюдений.
Среди взрослых васкулярная реакция («порозные» изменения) на эктокране наблюдалась только у двух наиболее возрастных мужчин (35–45 и старше 50 лет из погр. 28 инд. 1 и погр. 32 инд. 1 соответственно). На черепной коробке пожилого индивида, помимо выраженной васкулярной реакции на лобной, теменных и затылочной костях, наблюдалось заметное утолщение костей свода черепа. На сломе теменных и лобных костей в области наиболее выраженной пористости эктокрана видно, что свод утолщен за счет наружной пластинки. Не исключено, что наблюдаемые изменения могли быть следствием хронической инфекции. У этого же индивида наблюдаются следы инфекционного процесса зубочелюстного аппарата (абсцесс, пародонтит) и хронического воспаления в лобном и максиллярном синусах. Можно предположить, что инфекция, начавшаяся в зубочелюстном аппарате, распространилась и привела к воспалению перикраниума.
Периостальная реакция на костях посткраниального скелета отмечена только в детской выборке (до 8 лет). В основном это были длинные трубчатые кости, в одном случае – лопатка. В этой выборке также отмечены остеобластические изменения на внутренней поверхности затылочных костей – отложения грубоволокнистой костной ткани (тип B – fiber bone) и скопление пор (тип A – inflammatory pitting [Lewis, 2018, p. 143]).
Аномалии развития скелета
Из данной категории в выборке наблюдались аномалии зон оссификации, краниосиностоз и аномалии развития зубочелюстной системы. При этом такая часто встречающаяся аномалия, как spina bifida (расщепление дуги позвонков), в группе взрослых не встретилась. Почти все аномалии представляют собой индивидуальные случаи. Различные вариации строения черепа, включенные в программу дискретно варьирующих признаков, обсуждались в другой публикации [Куфтерин, 2020] и здесь не затрагиваются.
Среди аномалий зон оссификации можно отметить акромиальную кость правой лопатки у женщины (инд. 2) из погребения 9 и раздвоенные медиальные клиновидные кости в стопах мужчины из погребения 28. У женщины из погребения 11 наблюдалась двусторонняя таранно-пяточная коалиция. Область срастания по периметру передних и средних суставных поверхностей гладкая, признаков предшествующего артроза, воспаления или инфекции не наблюдается ни при визуальном осмотре, ни на рентгенограмме. Все это свидетельствует в пользу врожденного характера данного дефекта, представляющего собой аномалию сегментации на эмбриональном этапе развития [Mann, Hunt, 2005].
Краниосиностоз наблюдался на черепе молодого мужчины (18–22 года) из погребения 30, заключающийся в частичном синостозе левого чешуйчатого и сагиттального шва и синостозе левого затылочно-сосцевидного шва. Данный индивид отличался также заметной асимметрией лицевого отдела черепа, некоторым смещением сагиттального шва влево относительно медианной плоскости лобной кости, ассиметрией посткраниального скелета (левая плечевая кость на 7 мм длиннее правой, окружность ее головки больше на 10 мм; лопатки визуально асимметричные).
В серии наблюдалось два случая агенезии вторых премоляров с ретенцией соответствующих молочных моляров. Это молодой мужчина из погребения 2А (инд. 1) (агенезия правого P2) и девушка-подросток из по- гребения 26 (агенезия правого P2, P2 и левого P2). В обоих случаях отсутствие закладок вторых премоляров подтверждено рентгенографически.
Еще одна аномалия, вероятно врожденного характера, наблюдалась на черепе молодой женщины из погребения 8 (инд. 1). У нее прослеживается стеноз (сужение) обоих наружных слуховых проходов (см.: [Lewis, 2018, p. 28]).
Обсуждение
В целом выборка из кургана 1 Неплюев-ского могильника демонстрирует сходство с материалами из других синхронных памятников Южного Урала и Самарского Поволжья [Бужилова, 2005; Куфтерин, Нечвалода, 2016; Перерва, Капинус, 2019; Куфтерин, Карапетян, 2021; Muphy, Khokhlov, 2016]. В частности, в ней довольно распространены такие маркеры физиологического стресса, как ГЭЗ и cribra orbitalia . Как и в других срубных и срубно-алакульских сериях региона, скелеты из данного кургана не обнаруживают изменений, характерных для специфических инфекций. В то же время на некоторых скелетах встречаются периостальные изменения, не исключающие заболеваемость неспецифическими инфекциями, что было отмечено и на других синхронных сериях региона [Muphy, Khokhlov, 2016]. Некоторой отличительной чертой не-плюевской серии является относительно высокая частота переломов костей и явное их преобладание у женщин.
В палеопатологической литературе cribra orbitalia и поротический гиперостоз традиционно рассматриваются как маркеры анемии в детском возрасте, вызванные такими состояниями, как дефицит железа, витамина В12, паразитарные инфекции, инфекции желудочно-кишечного тракта, наследственные формы анемии (серповидноклеточная, талассемия), и некоторыми другими [Ortner, 2003, p. 363–364; Lewis, 2018, p. 196]. Маловероятно, что среди населения срубной и ала-кульской культур обсуждаемого региона столь часто встречались наследственные формы анемии, которые в основном приурочены к южным регионам, где распространена малярия [Ortner, 2003, p. 364–365, 367].
Относительно высокая частота cribra orbitalia среди обитателей степных и лесостепных областей в позднем бронзовом веке может быть связана с употреблением этими группами в пищу рыбы – частого источника паразитарных инфекций [Walker, 1986]. В частности, присутствие рыбы в качестве одного из компонентов белковой диеты установлено в ходе исследований почвенных слоев из заполнения объектов синташтинского и сруб-но-алакульского времени поселения Каменный Амбар, расположенного, так же как и могильник Неплюевский, в долине р. Карагайлы-Аят. В макроостатках доминирует чешуя, в меньших количествах определяются мелкие кости и позвонки [Stobbe et al., 2013, р. 235–236, fig. 1–2]. Обогащение пищи пресноводной рыбой не исключается и по результатам изотопного анализа материалов эпохи средней и поздней бронзы региона [Ventresca Miller et al., 2014; Hanks et al., 2018].
С другой стороны, употребление преимущественно молочной продукции, а не мяса – важнейшего источника железа в рационе [Bothwell et al., 1989] могло приводить к развитию анемичных состояний, обусловленных недостатком этого микроэлемента в пище. Ее обогащение коровьим молоком само по себе могло приводить к анемичным состояниям у маленьких детей, так как, попадая в незрелую пищеварительную систему ребенка, последнее способно вызывать внутренние кровотечения [Lewis, 2018, p. 197]. Повсеместное употребление молочных продуктов в пищу у населения бронзового века степных регионов было показано недавними исследованиями содержания молочных протеинов в образцах зубного камня, в том числе на материалах Неплюевского могильника [Scott et al., 2022].
Судя по литературным данным, такие состояния, как цинга или рахит, для населения эпохи поздней бронзы Южного Урала и Самарского Поволжья не характерны [Бужи-лова, 2005; Куфтерин, Нечвалода, 2016; Куф-терин, Карапетян, 2021; Muphy, Khokhlov, 2016]. Лишь в одной из публикаций по материалам могильника Красносамарский IV Самарской области отмечается, что «признаки... пороза костей свода и лицевого отделов черепа, указывающие на развитие такого заболевания, как цинга... характерны для выбор- ки неполовозрелых индивидов» [Перерва, Ка-пинус, 2019, с. 148]. В исследованных нами материалах признаков, однозначно указывающих на цингу, не отмечено. Что касается рахита, то изменения, согласующиеся с этим диагнозом, зафиксированы только на одном скелете ребенка грудного возраста. Наблюдаемая патология у данного ребенка, скорее всего, является результатом стечения неблагоприятных обстоятельств: рождение в период низкой инсоляции, дефицит витамина D в организме матери в период внутриутробного развития, наличие у ребенка врожденных нарушений метаболизма и т. п. [Lewis, 2018, p. 209–210]. Отсутствие убедительно диагностированных случаев цинги на материалах эпохи бронзы изучаемого региона указывает на то, что питание обсуждаемых групп, скорее всего, дополнялось растительными (дикорастущими?) продуктами, богатыми витамином С. Практически полное отсутствие явных случаев рахита может быть связано, в том числе, с постоянным употреблением молочных продуктов с высоким содержанием кальция, способного частично компенсировать сезонную нехватку в витамине D [Козлов, Вершуб-ская, 2017], и, возможно, употреблением в пищу пресноводной рыбы, в жире которой содержится определенное количество этого витамина [Козлов, Вершубская, 2019].
Интересно, что ни в одной из работ, посвященных исследованию материалов эпохи бронзы региона, не отмечено изменений, характерных для специфических инфекций [Бу-жилова, 2005; Ражев, Епимахов, 2005; Куфте-рин, Нечвалода, 2016; Перерва, Капинус, 2019; Куфтерин, Карапетян, 2021; Murphy, Khokhlov, 2016], в том числе зоонозных – таких как бруцеллез или туберкулез 3, распространенность которых ожидаема в скотоводческих группах, тесно контактирующих с одомашненными животными и употребляющих в пищу продукты животноводства. Связано ли это с низкой плотностью соответствующих патогенов в изучаемых группах, с низкой или, наоборот, высокой адаптированностью групп к взаимодействию с ними, с эффективной термической обработкой пищи – вопрос, требующий дальнейших и более углубленных исследований. Учитывая предполагаемую высокую детскую смертность, в этих коллективах, веро- ятно, циркулировали остропротекающие или вирусные инфекции, не оставляющие следов на костях. Ранее такое допущение было сделано при анализе детских скелетов из курганов 5 и 9 могильника Неплюевский [Луайе, Шарапова, 2017, с. 105, 109]. Это подтверждается обнаружением ДНК возбудителя чумы [Spyrou et al., 2018] и вируса гепатита В [Kocher et al., 2021] в образцах зубов из памятников срубной культуры. Д.И. Ражев и А.В. Епимахов [2005], обсуждая феномен многочисленности детских погребений в могильниках эпохи бронзы региона, не исключают распространенность в этих группах ящура – зоонозного заболевания вирусной природы, которое преимущественно поражает детей.
По характеру травм рассмотренная серия из Неплюевского могильника, с одной стороны, обнаруживает такие типичные для населения срубного времени черты, как отсутствие боевого травматизма, наличие перелома носовых костей и, скорее всего, бытовой характер травм посткраниального скелета. Наиболее часто травмируемой частью скелета оказались кости верхних конечностей, что согласуется с данными по другим синхронным выборкам. Однако в неплюевской серии процент переломов заметно выше, чем в целом по памятникам эпохи поздней бронзы Волго-Уралья, при этом большинство переломов сосредоточено на женских скелетах, что также является отличительной чертой серии. В то же время такие маркеры физического стресса (нагрузки?), как osteochondritis dissecans, спондилолиз и грыжи межпозвоночного диска, встречаются как на мужских, так и на женских скелетах. Отметим, что интерпретация некоторых переломов на женских скелетах неоднозначна и не исключает межличностную агрессию. В частности, травма локтевой кости у женщины из погребения 25 представляет собой типичный случай парирующего перелома [Judd et al., 2018], травма носовых костей у женщины из погребения 2А (инд. 2), скорее всего, получена при ударе в лицо, перелом угла среднего ребра у, вероятно, женщины из погребения 9 мог быть следствием как падения, так и травмы от удара тупым предметом, включая умышленный удар [Sirmali et al., 2003]. К сожалению, небольшой объем изуча- емой выборки взрослых не позволяет говорить о том, насколько достоверны различия в характере распределения травм между мужчинами и женщинами и чем отличается эта группа от групп Волго-Уральского региона – образом жизни или более низким социальным статусом женщин.
Заключение
Приведенные результаты палеопатологического изучения индивидов из кургана 1 могут оказаться значимыми в плане гипотетических предположений появления такого кургана-кладбища. Микростратиграфия и планиграфия объектов позволяют допустить, что временной разрыв между разными захоронениями не был большим. Нами не зафиксированы случаи наложения или нарушения контуров могильных ям при возведении новых, а некоторые погребения имели общие надмогильные конструкции [Карапетян и др., 2019]. Установленные антропологическими исследованиями возможные родственные связи внутри курганной выборки [Куфтерин, 2020] также согласуются с археологическими данными об относительной синхронности исследованных погребальных комплексов.
В кургане преобладают одиночные захоронения [Карапетян и др., 2019]. Это отличает рассматриваемую выборку от материалов, например, синташтинского времени долины р. Карагайлы-Аят (Каменный Амбар 5), где велика доля коллективных детских захоронений, что может указывать на социальную селективность и существование «сакральных» эпидемий [Ражев, Епимахов, 2005]. В то же время количественное преобладание детей в изучаемой нами группе и возможные родственные связи между погребенными позволяют предположить, что одной из основных причин смертности были инфекции. Следующим зве- ном в цепочке рассуждений является отсутствие признаков межгрупповых конфликтов, что не исключает их внутри коллектива.
Основой существования изучаемого населения являлось комплексное животноводство [Рассадников, 2016] с сопутствующими ему зоонозными инфекциями, которые, однако, на исследованных скелетах достоверно не выявляются. Реконструируемые среда обитания и система расселения позволяют полагать сравнительно высокую плотность населения [Епимахов, 2009; Булакова, Костомаров, 2020], что также может быть ассоциировано с повышенной патогенной нагрузкой среды. Археологическим проявлением этого стало возникновение больших некрополей, среди которых могильник Неплюевский.
Список литературы Патологические изменения на скелетах из Неплюевского могильника эпохи поздней бронзы (курган 1)
- Бужилова А. П., 2005. Характеристика здоровья населения // Черных Е. Н. Некрополи на Каргалах. Население Каргалов: Палеоантропологические исследования. М.: Языки славянской культуры. С. 171–176.
- Булакова Е. А., Костомаров В. М., 2020. Структура расселения в долине р. Карагайлы-Аят в эпоху бронзы (по материалам археологических памятников) // Уральский исторически вестник. Т. 67, № 2. С. 35–44. DOI: https://doi.org/10.30759/1728-9718-2020-2(67)-35-44
- Епимахов A. B., 2009. Бронзовый век Южного Урала: экономическая стабильность и социальная динамика // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1 (23). С. 180–202.
- Карапетян М. К., Шарапова С. В., Якимов А. С., 2019. Материалы к характеристике населения эпохи бронзы Южного Зауралья // Уральский исторический вестник. Т. 62, № 1. С. 28–37. DOI: https://doi.org/10.30759/1728-9718-2019-1(62)-28-3
- Козлов А. И., Вершубская Г. Г., 2017. D-витаминный статус и персистенция лактазы в европейских популяциях (обзор литературы с элементами мета-анализа) // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. № 3. С. 68–75.
- Козлов А. И., Вершубская Г. Г., 2019. 25-гидроксивитамин D в различных группах населения севера России // Физиология человека. Т. 45, № 5. С. 125–136.
- Кузнецов П. Ф., Хохлов А. А., 1998. Следы травматических повреждений людей по материалам погребений эпохи бронзы Волго-Уральского региона (возможности анализа и интерпретации) // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе: материалы Междунар. конф. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 31–33.
- Куфтерин В. В., 2020. Дискретные признаки на черепах из кургана 1 Неплюевского могильника и некоторые проблемы внутригруппового анализа фенетических данных // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. № 1. С. 123–136.
- Куфтерин В. В., Карапетян М. К., 2021. Палеопатологические индикаторы «качества жизни» детей срубного времени Южного Приуралья // Уральский исторический вестник. Т. 70, № 1. С. 150–159. DOI: https://doi.org/10.30759/1728-9718-2021-1(70)-150-159
- Куфтерин В. В., Нечвалода А. И., 2016. Антропологическое исследование скелетов из срубно-алакульского кургана Селивановского II могильника // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Т. 35, № 4. С. 79–89. DOI: https://doi.org/10.20874/2071-0437-2016-35-4-079-089
- Луайе Ж., Шарапова С. В., 2017. Палеопатологии детей из погребений бронзового века (на примере могильника Неплюевский) // Уральский исторический вестник. Т. 54, № 1. С. 103–112.
- Медникова М. Б., 2017. Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. М.: Ин-т археологии РАН. 223 c.
- Перерва Е. В., 2020. Травматизм населения бронзового века Нижнего Поволжья // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25, № 4. С. 236–255. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.4.16
- Перерва Е. В., Капинус Ю. О., 2019. Палеопатологические особенности населения эпохи поздней бронзы по антропологическим материалам из могильников в окрестностях села Красносамарское Самарской области // Самарский научный вестник. Т. 29, № 4. С. 144–153.
- Ражев Д. И., Епимахов А. В., 2004. Феномен многочисленности детских погребений в могильниках эпохи бронзы // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 5. С. 107–113.
- Рассадников А. Ю., 2016. Система мясного питания древнего населения позднего бронзового века Южного Зауралья (по археозоологическим материалам) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». Т. 16, № 1. С. 110–115.
- Синева И. М., 2013. Определение половой принадлежности в палеоантропологических исследованиях костей верхней и нижней конечности: дис. ... канд. биол. наук. М. 185 с.
- Файзуллин И. А., Купцова Л. В., Мухаметдинов В. И., 2021. Гончарное производство срубной культуры Предуралья по материалам курганного могильника I у села Твердилово // Нижневолжский археологический вестник. Т. 20, № 2. С. 8–23. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2021.2.1
- Хохлов А. А., Китов Е. П., 2019. Дефекты травматического происхождения на палеоантропологических материалах эпохи раннего металла Волго-Уралья // Stratum plus. № 2. С. 267–280.
- Шарапова С. В., 2017. Отчет о раскопках могильника Неплюевский в Карталинском районе Челябинской области в 2017 г. // Архив ИА РАН. P. 1.
- Bothwell T. H., Baynes R. S., Macfarlane B. J., Macphail A. P., 1989. Nutritional Iron Requirements and Food Iron Absorption // Journal of Internal Medicine. Vol. 226, № 5. P. 357–365.
- Brickley M., Ives R., 2008. The Bioarchaeology of Metabolic Bone Disease. San Diego: Elsevier Academic Press. 350 p.
- D’Angelo del Campo M. D., Suby J. A., García-Laborde P., Guichón R. A., 2017. Spondylolysis in the Past: A Case Study of Hunter-Gatherers from Southern Patagonia // International Journal of Paleopathology. Vol. 19. P. 1–17. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpp.2017.07.001
- Hanks B. K., Ventresca Miller A., Judd M., Epimakhov A., Razhev D., Privat K., 2018. Bronze Age Diet and Economy: New Stable Isotope Data from the Central Eurasian Steppes (2100–1700 BC) // Journal of Archaeological Science. Vol. 97. P. 14–25.
- Judd M. A., Walker J. L., Ventresca Miller A., Razhev D., Epimakhov A. V., Hanks B. K., 2018. Life in the Fast Lane: Settled Pastoralism in the Central Eurasian Steppe During the Middle Bronze Age // American Journal of Human Biology. Vol. 30, № 4. P. e23129. DOI: 10.1002/ajhb.23129
- Kaplan B., Rabinerson D., Avrech O.M., Carmi N., Steinberg D. M., Merlob P., 1998. Fracture of the Clavicle in the Newborn Following Normal Labor and Delivery // International Journal Gynaecology & Obstetrics. Vol. 63, № 1. P. 15–20
- Karapetian M. K., Kufterin V. V., Chaplygin M. S., Starodubtsev M. V., Bakhshiev I. I., 2021. Exploring Dietary Practices in Non-Adults of the Late Bronze Age Southern Urals: A Perspective from Dental Attributes // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 31, № 6. P. 1046–1056. DOI: https://doi.org/10.1002/oa.3017
- Kocher A., Papac L., Barquera R., Key F. M., Spyrou M. A. et al., 2021. Ten Millennia of Hepatitis B Virus Evolution // Science. Vol. 374, № 6564. P. 182–188. DOI: http://doi.org/10.1126/science.abi5658
- Lewis M., 2018. Paleopathology of Children: Identification of Pathological Conditions in the Human Skeletal Remains of Non-Adults. London: Academic Press. 300 p.
- Mann R. W., Hunt D. R., 2005. Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variation in the Human Skeleton. Springfield: Charles C. Thomas Publ. 297 p.
- Murphy E. M., Khokhlov A. A., 2016. A Bioarchaeologucal Study of the Prehistoric Populations from the Volga Region // Anthony D. W., Brown D. R., Mochalov O. D., Khokhlov A. A., Kuznetsov P. F. A Bronze Age Landscape in the Russian Steppes: The Samara Valley Project. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology Press, UCLA. P. 149–216.
- O’Reilly L. M., Daborn C. J., 1995. The Epidemiology of Mycobacterium Bovis Infections in Animals and Man: A Review // Tubercle and Lung Disease. Vol. 76, Suppl. 1. P. 1–46. DOI: http://doi.org/10.1016/0962-8479(95)90591-x
- Ortner D. J., 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. San Diego: Academic Press. 664 p.
- Schaefer M., Black S., Scheuer L., 2009. Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual. London: Academic Press. 384 p.
- Scott A., Reinhold S., Hermes T., Kalmykov A., Belinskiy A. et al., 2022. Emergence and Intensification of Dairying in the Caucasus and Eurasian Steppes // Nature Ecology & Evolution. DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-022-01701-6
- Sirmali M., Türüt H., Topçu S., Gülhan E., Yazici U., Kaya S., Taştepe I., 2003. A Comprehensive Analysis of Traumatic Rib Fractures: Morbidity, Mortality and Management // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. Vol. 24, № 1. P. 133–138. DOI: https://doi.org/10.1016/S1010-7940(03)00256-2
- Spyrou M. A., Tukhbatova R. I., Wang C. C., Valtuena A. A., Lankapalli A. K., Kondrashin V. V., Tsybin V. A., Khokhlov A., Kühnert D., Herbig A., Bos K. I., Krause J., 2018. Analysis of 3800-year-old Yersinia Pestis Genomes Suggests Bronze Age Origin for Bubonic Plague // Nature Communications. Vol. 9, art. 2234. DOI: http://doi.org/10.1038/s41467-018-04550-9
- Stobbe A., Rühl L., Nekrasov A., Kosintsev P., 2013 Fish – an Important Dietary Component in the Settlemet of Kamennyi Ambar // Krause R., Koryakova L. N. Multidisciplinary Investigations of the Bronze Age Settlements in the Southern Trans-Urals (Russia). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. P. 233–237.
- Ventresca Miller A., Usmanova E., Logvin V., Kalieva S., Shevnina I., Logvin A., Kolbina A., Suslov A., Privat K., Haas K., Rosenmeier M., 2014. Subsistence and Social Change in Central Eurasia: Stable Isotope Analysis of Populations Spanning the Bronze Age Transition // Journal of Archaeological Science. Vol. 42. P. 525–538. DOI: https://doi.org/10.1016/J.JAS.2013.11.012
- Walker P. L., 1986. Porotic Hyperostosis in a Marine-Dependent California Indian Population // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 69, № 3. P. 345–354. DOI: http://doi.org/10.1002/ajpa.1330690307
- White T. D., Folkens P. A., 2005. The Human Bone Manual. Burlington: Elsevier Academic Press. 488 p.