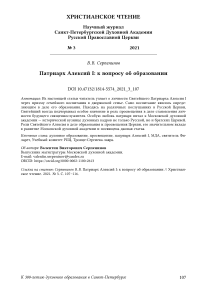Патриарх Алексий I: к вопросу об образовании
Автор: Серпенинов Валентин Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 300-летию духовного образования в Санкт-Петербурге
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
Из настоящей статьи читатель узнает о личности Святейшего Патриарха Алексия I через призму семейного воспитания в дворянской семье. Само воспитание явилось определяющим в деле его образования. Находясь на различных послушаниях в Русской Церкви, Святейший всегда подчеркивал особое значение и роль просвещения в деле становления личности будущего священнослужителя. Особую любовь патриарх питал к Московской духовной академии - исторической кузнице духовных кадров не только Русской, но и братских Церквей. Роли Святейшего Алексия в деле образования и просвещения Церкви, его значительном вкладе в развитие Московской духовной академии и посвящена данная статья.
Духовное образование, просвещение, патриарх алексий i, мда, святитель филарет, учебный комитет рпц, троице-сергиева лавра
Короткий адрес: https://sciup.org/140257058
IDR: 140257058 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_107
Текст научной статьи Патриарх Алексий I: к вопросу об образовании
Личность человека как такового особым образом формируется благодаря его образованию. Данный тезис находит себе подтверждение не только в светском обществе, но и в церковной среде. Неслучайно теме образования и просвещения посвящали б о льшую часть своей жизни как ученые мужи, так и подвижники благочестия. Однако важно отметить и то, что не всякий образованный человек является просвещенным. Последнее во многом зависит не только от умственных способностей, но и от среды, в которой растет человек, интеллектуального и морального уровня его воспитания [Пукшанский, 2016, 766]. Именно с целью обеспечения этой среды изначально и были учреждены духовные учебные заведения, где учащиеся имели возможность постичь как духовные, так и светские науки. Учащихся называли воспитанниками , тем самым подчеркивая особую роль воспитания личности в деле становления будущего священнослужителя. Воспитание подразумевает также наличие наставника, руководителя. Предметом данной статьи является анализ личности Святейшего Патриарха Алексия I, Свято-Троицкой Сергиевой ларвы священноархимандрита, как наставника и организатора в деле просвещения будущих служителей Алтаря Господнего — на примере личной жизни, а также отношения Его Святейшества к учащимся родной alma mater, Московской духовной академии.
Прежде всего следует отметить, что патриарх происходил из рода, принадлежащего к псковскому дворянству, что уже под собой подразумевало получение априори хорошего образования и воспитания. Отец Святейшего — Владимир Андреевич Симанский — особым образом следил за воспитанием своих детей, оно было достаточно строгим. Сам Владимир Андреевич с детства «занимался с приходящими учителями, среди них были известный московский протоиерей Стефан Зернов, историк В. О. Ключевский, математик К. П. Буренин» [Одинцов, 2000, 676]. Обучение у таких знаменитых педагогов способствовало успешному поступлению на юридический факультет Московского университета. Владимир Андреевич всегда и во всем был примером. Его отличала не только строгость по отношению к светскому образованию своих детей, он также «всемерно способствовал их религиозно-нравственному воспитанию, следил за их домашней молитвой, регулярным и частым посещением храма, соблюдением постов — старался привить им навыки церковной жизни» [Одинцов, 2000, 676]. Из вышесказанного видно, что в деле просвещения важна и духовная составляющая процесса воспитания. Позже патриарх напишет: «Как отрадно было после молитвы приложиться к любимой иконе и получить благословение батюшки! Сколько благодатных, теплых воспоминаний осталось в душе от таких знаменательных событий, неразрывно связанных с храмом, как говение на первой и на седьмой неделях Великого поста или как Пасхальная седмица» [ЖМП, 1957, 25].
Знаменитый современник патриарха Алексия I архиеп. Никон (Рождественский) свидетельствует, что именно внимательное и регулярное посещение храма является важнейшей составляющей в деле образования и просвещения молодого поколения. Преосвященный архиерей утверждал, что «именно здесь (непосещение храма. — В. С.) необходимо искать главную причину постоянно увеличивающегося оскудения веры в русском обществе» (ОР РГБ. Ф. 765. К. 3. Ед. хр. 44. Л. 2).
Особое влияние на семью Симанских оказал святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский, благодарную память о котором пронесет Святейший Алексий I на протяжении всей своей жизни. Собственно митрополиту Филарету и принадлежат важнейшие слова: «Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера» [Филарет Дроздов, 2017, 102], являющиеся девизом жизни и деятельности Святейшего Алексия I.
Сережа Симанский (будущий патриарх) обучался с раннего возраста на дому. Учителей самым тщательным образом подбирал ему отец. «Первые уроки Закона Божия давал законоучитель Николаевского института протоиерей Николай Протопопов» [Одинцов, 2000, 676]. Сам быт дворянской семьи влиял на успех воспитательного процесса: это и интеллектуальные встречи с интеллигенцией и представителями науки, и частые посещения ученого столичного духовенства с беседами на религиозно-философские темы. Владимир Андреевич принимает решение отправить старшего сына Сергея по своим стопам — он также поступает на юридический факультет Московского Императорского университета. Позже, в 1888 г., он был зачислен в Лазаревский институт восточных языков — привилегированное учебное заведение для высших слоев общества. «В 1891 г. Сережу Симанского перевели в Императорский лицей памяти цесаревича Николая Александровича (Катковский лицей. — В. С.). Лицей имел сильный состав преподавателей, как российских, так и иностранных, здесь расширенно преподавались древние и новые языки, история, естественные науки… Сережа Симанский быстро стал одним из первых учеников. В 1896 г. он окончил гимназические классы лицея, получил аттестат зрелости и серебряную медаль» [Одинцов, 2000, 677]. Нужно отметить, что наличие такого рода образования приравнивалось к гимназическому [Шаповалова, 1945, 94] и предполагало получение высшего образования в три года. С 1896 по 1899 гг. Сережа воспользовался этим правом, поступив в университет. Однако его тянуло в храм, он мечтал о духовном образовании.
В 1900 г. Сергей Владимирович Симанский поступает на первый курс Московской духовной семинарии, хотя, являясь выпускником Московского университета, он имел уникальную возможность быть зачисленным на второй курс семинарии. Причиной такого решения явилось следование мудрому совету ректора Академии — еп. Арсения (Стадницкого) — пройти полный курс академического образования [Рожнева, 2016, 28]. Впоследствии владыку ректора и будущего патриарха будет связывать неразрывная духовная дружба. Частому общению способствовали и внешние обстоятельства: еп. Арсений находился в дружественных отношениях с В. А. Симанским и всякий раз, бывая в Санкт-Петербурге, имел обыкновение посещать своего друга [Одинцов, 2000, 678]. «Епископ Арсений имел большее влияние на умственное и духовное развитие студента С. В. Симанского, чем кто-либо другой из его наставников» [ЖМП, 1957, 26].
Во время обучения в Академии Сергей Симанский решается принять монашеский постриг, который совершил над ним в 1902 г. еп. Арсений, назвав Алексием, в честь Московского святителя. Интересной особенностью явилось пострижение студента Симанского в монашеский чин на литургии во время малого входа [Арсений Стадниц-кий, 2012, 21]. «Надеюсь видеть в нем хорошего инока, а впоследствии и полезного деятеля Святой Церкви» [Арсений Стадницкий, 2012, 21], — такую запись 9 февраля 1902 г. оставил в своем дневнике владыка Арсений. Эти слова явились пророческими!
Нужно отметить, что дневники митр. Арсения (Стадницкого) являются уникальным источником для изучения истории Московской духовной академии в целом и личности патриарха Алексия как воспитанника Академии в частности. Приведем одну из записей дневника, составленную в день Пасхи 1903 г., характеризующую личность последнего: «…я перешел в другое купе к моим спутникам-студентам, которых я взял с собою: о. диакона Алексия (Симанского) и Илию Абурруса, сирийца. Оба очень хорошие и, кажется, расположены ко мне. С ними я очень оживленно в беседе провел две трети пути до Москвы. Тут о. Алексий поведал мне сон свой о моем награждении. Сон очень любопытный. „О вашем награждении, — говорил он, — я узнал только сегодня. Между тем три дня назад мне снится, будто я с вами еду в вагоне 1-го класса, вижу у вас на груди низко прицепленную звезду и говорю: «Владыко! У вас звезда низко прицеплена, нужно ее поднять несколько выше»“. Действительно, звезда у меня низко прицеплена, по моему неумению как ее носить. Даже до субботы никто у нас не знал о моей награде. Симанский, живущий рядом со мною, не только не знал, но даже и не думал о возможном награждении меня. Сомневаться в искренности его рассказа я положительно не могу, зная его за правдивого человека, да притом же не было положительно никакого побуждения для него выдумывать. Он сказал, что этот сон и исполнение его так поразили, что он не решался даже поведать о нем, боясь, как бы я не счел это за выдумку. Словом, это — факт и относится к области ясновидения, что ли, во всяком случае, очень любопытен. Отец Алексий — довольно нервный человек (тонкая, нервная натура. — В. С.)» [Арсений Стадницкий, 2012, 307]. Исходя из вышесказанного, можно предположить, насколько сильной была личная внутренняя связь студента Симанского и владыки ректора с «железной рукой и твердым характером» (так отозвался о еп. Арсении министр Плеве, см.: [Арсений Стадницкий, 2012, 318]), отличавшегося своей честностью и требовательностью, о чем можно судить из записей самого дневника.
Возвращаясь к вопросу о принятии монашества, нужно полагать, что личный пример жизни родной тетушки монахини1, как одна из важных составляющих процесса воспитания, явился во многом определяющим в выборе будущего пути [Шаповалова, 1945, 94]. Неоднократно Святейший в своих проповедях и обращениях к учащим и учащимся подчеркивал важность личного примера в деле формирования индивидуума. Сам патриарх с сыновьей любовью и признательностью всегда отзывался о своих учителях и наставниках: «Обращаясь опять невольно к воспоминаниям своей ученической жизни, я теперь вижу, какое огромное влияние на нас, воспитанников, имел наш законоучитель; какое воспитательное значение имело его благоговейное, усердное совершение божественных служб; его любовь к храму; как назидательна была исповедь у него; какая ревность чувствовалась в нем при преподавании, как незаметно его вера, его усердие передавались воспитанникам…» [ЖМП, 1957, 25–26]. А учителей напутствовал: «Возгревайте в сердцах ваших питомцев любовь и преданность святому православию, любовь к пастырскому и учительному деланию, научайте их примером собственной жизни упорству в труде, любви и истинной науке» [ЖМП, 1957, 35].
Во время обучения в стенах Троице-Сергиевой лавры2 иеродиакон Алексий подготовил кандидатское сочинение на тему «Господствующие в современном нравственно-правовом сознании понятия перед судом митрополита Филарета». Выбор темы был обусловлен как наличием интереса к правовым наукам, так и личным знакомством семьи Симанских с митр. Филаретом (Дроздовым), о чем было указано выше. О высоком уровне образования и научной зрелости молодого монаха-соискателя свидетельствует отзыв профессора по кафедре истории философии А. И. Введенского: «Всего ценнее в сочинении — повсюду обнаруживаемая зрелость мысли, вполне способной подниматься до высоты вопросов, волнующих современное общество, и, с другой стороны, — разбираться в них с христианско-православной точки зрения, на которую автор повсюду восходит вслед за своим мудрым духовным руководителем приснопамятным святителем Московским» [Одинцов, 2000, 678]. Впоследствии патриарх Алексий неоднократно будет говорить, обращаясь к студенчеству, о важности не сухого заучивания наук, а о рассуждении и живости мысли, предупреждая быть честными по отношению к науке, не увлекаясь ее мнимым всемогуществом [ЖМП, 1957, 29]. С 1904 по 1913 гг. отец Алексий занимал поочередно должности инспектора Псковской духовной семинарии, ректора Тульской и Новгородской духовных семинарий. «Таким образом, духовно-учебная служба была его первым послушанием в иноческом чине и в священном сане, первым этапом в его церковно-общественной деятельности» [Талин, 1962, 71]. Нужно отметить, что, обладая прекрасными навыками организаторской и педагогической деятельности, он тяготился этим послушанием, о чем откровенно писал своему наставнику архиеп. Арсению (Стадницкому): «я никогда не чувствовал расположения к педагогической деятельности, а теперь все больше и больше убеждаюсь, что, сколько ни трудись в нашей неустроенной и разнузданной школе, — ничего нельзя сделать, и это по временам повергает меня если не в отчаяние, то в глубокое уныние и отнимает последнюю энергию» (ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 542. Л. 25).
Архиерейское служение Алексия Симанского пришлось на сложный период существования Русской Православной Церкви в реалиях антирелигиозной кампании советской власти. Это время характеризовалось тотальным подрывом основ служения как такового — власть пыталась расправиться со священнослужителями. Именно поэтому открытие духовных учебных заведений являлось одним из основных требований митрополитов во время их исторической ночной встречи с И. В. Сталиным3. Заручившись поддержкой Кремля, в период местоблюстительства Патриаршего престола (15.05.1944–04.02.1945) митр. Алексий добился у властей разрешения открыть в Москве Богословский институт, студентам которого, ради непрерывного образовательного процесса, предоставлялись даже персональные отсрочки от призыва в армию [Одинцов, 2000, 686]. Это крупное событие в церковной жизни того времени произошло 14 июня 1944 г., «в день св. мученика Иустина-Философа, в тот самый день, который в дореволюционной России считался праздником духовно-учебных заведений» [ЖМП, 1957, 52]. Обосновывая огромную роль и значение просвещения в церковной жизни будущих пастырей не только Русской Церкви, но и Вселенской, Святейший обращается в Совет по делам Русской Православной Церкви, утверждая, что «В деле духовного просвещения и объединения церковных сил всего православного мира особенно важная роль выпадает на долю Православного богословского института, который в течение ближайших лет должен стать не только рассадником пастырских кадров, но и центром научно-богословской мысли Вселенского Православия, о чем, между прочим, свидетельствует и желание зарубежных Церквей посылать к нам своих студентов для обучения» (Письма, 2009, 45). В день открытия института проректор профессор С. В. Савин-ский4 отметил, что «Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Алексий, несмотря на загруженность церковными делами, в период своего пребывания в Москве не только просто интересовался положением дела наших школ, но и находил время лично посещать предоставленные школам помещения и давать соответствующие указания» [Никонов, 1952а, 13]. Деятельность местоблюстителя, а впоследствии и патриарха, была в первую очередь направлена на организацию подготовки кадров будущих священнослужителей, нехватка которых была резко ощутима.
В 1946 г. патриарх Алексий I открывал абсолютно новую Московскую духовную академию. «Прежняя духовная школа была школой серьезной, глубокой, а в иных случаях и суровой школой. Добрая ей память, честь и слава! Из нее вышел целый сонм святителей, пастырей, ученых богословов, скромных, но трудолюбивых работников на всех поприщах церковной, государственной и общественной деятельности. <…> Слабой стороной прежней духовной школы было то, что она имела двойственную задачу. Это была школа сословная, она имела задачей дать возможность духовенству, сословию в общем бедному, на льготных началах давать воспитание и образование своим детям; другой задачей ее было создавать кадры будущих священнослужителей. <…> И получилось, что наши духовные школы носили полусветский характер, который отражался на всем строе — и учебном, и воспитательном. Теперь же не так должно быть и не так будет. Сословий у нас нет, нет и духовного сословия… и потому те, кто поступают в наши духовно-учебные школы, поступят в них не подневольно, а следуя влечению своему послужить Святой Церкви в священном сане. Весь строй этих школ должен быть строго церковным, без всякого уклонения в сторону мирского, светского уклада, и все питомцы нашей школы будут ему подчиняться» (Патриарх Алексий I, 1948, 163–164). В своем выступлении Святейший подчеркнул особенности прежней духовной школы, указав, что былой порядок вносил мирской дух в жизнь самой школы, так как далеко не все дети священнослужителей желали принятия сана. «Святейший патриарх Алексий всегда говорил, что в области духовного просвещения мы должны стремиться прежде всего к тому, что „из прежней школы взять то многое доброе, что она давала, и отрешиться от ее грехов, уклонений и ошибок“» [Талин, 1962, 75]. В период с 1945 по 1947 гг. стараниями Святейшего было открыто восемь духовных семинарий, благодаря чему было завершено создание духовно-учебной системы Русской Церкви [ЖМП, 1957, 53].
«Для высшего надзора за духовно-учебными заведениями при Священном Синоде был создан Учебный Комитет» [Никонов, 1952а, 25]. Данный орган существует и до сих пор, являясь, согласно Уставу Русской Православной Церкви, Синодальным учреждением Русской Православной Церкви. Учебный комитет был призван «организовывать и развивать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации священнослужителей, церковнослужителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви» (Устав, 2020).
Учебный процесс немыслим без научной работы. Патриарх Алексий I это прекрасно осознавал. Первостепенной задачей Академии являлась подготовка квалифицированных кадров, подкованных в богословских науках. Единомышленниками Святейшего в этой связи выступал ректорат Академии. К примеру, прот. Николай Чепурин выступил на заседании Ученого совета 26 сентября 1946 г.: «В задачу духовной академии, помимо учебной и воспитательной работы, входит и ученая деятельность, которая предполагает творческое участие каждого профессора и доцента в разработке наиболее существенных вопросов избранной им специальности. Но эту работу нельзя представлять самотеку. Она должна осуществляться в границах определенного плана, составленного так, чтобы жизненная конкретность его задач служила и творческим стимулом, и контролем для каждого работника». К сожалению, ректорство о. Николая продлилось всего лишь три месяца. Однако за столь короткий срок отец-ректор сумел «совершить больше, чем многие могут сделать за долгие годы», — заключил Патриарх в своем надгробном слове (Патриарх Алексий I, 1948, 174).
Благодаря стараниям Святейшего Московская духовная академия получила право присуждать ученые степени своим выпускникам [Никонов, 1952б, 31]. Анализируя публикации «Журнала Московской Патриархии» за период первосвятительского служения Святейшего Алексия I, приходим к выводу о том, что он «не оставляет без своего отеческого наблюдения Академию в ее текущей повседневной работе» [Никонов, 1952б, 31]. Посещение Академии в ее престольный и актовый день также становится традиционным мероприятием в повестке дня Святейшего.
Заслуженный профессор Академии М. Х. Трофимчук в своей летописи наиболее важных событий из жизни МДА под названием «Академия у Троицы» составил достаточно подробный портрет Святейшего Алексия как патрона старейшего духовного учебного заведения. Приведем наиболее яркое воспоминание профессора.
«23 и 27 мая (1949 г. — В. С. ) Святейший побывал на экзаменах в 3-м классе семинарии. Насколько удивительно то, что первоиерарх Русской Церкви присутствовал на экзаменах — обычных, рядовых, настолько же привычным было появление Святейшего в классных комнатах, поскольку патриарх Алексий на протяжении всех лет первосвятительского служения не выпускал из поля зрения постановку учебного дела в Московских духовных школах. Состав преподаваемых дисциплин, учебные программы, методика преподавания, успеваемость — все было под контролем Святейшего владыки. Человек неравнодушный, лицо заинтересованное, он даже при осмотре журнала заседаний учебного Совета указывал на неточности формулировок, исправлял грамматические ошибки, стиль» [Трофимчук, 2005, 90].
Примечательно то, что патриарх Алексий I очень часто присутствовал на разного рода экзаменах, мог задать вопрос учащемуся и внести коррективы в оценку экзаменатора. «В большинстве своем преподаватели имели высшее богословское образование. Относиться к своим обязанностям недобросовестно они не могли, да и не смели, потому что на многих занятиях и экзаменах присутствовали церковные иерархи, начиная с Патриарха… И каждый раз он радовался успехам учащихся, был доволен результатами обучения» [Трофимчук, 2005, 143]. Сами студенты очень трогательно отзывались о предстоятеле Церкви, осознавая его огромный личный вклад в дело воспитания и образования: «Особенно трогательна любовь Святейшего к воспитанникам и студентам духовных школ. Это поистине нежная любовь матери к своим детям… Святейший при посещении Московских духовных школ беседовал отечески, любовно, просто, непринужденно с учащимися. Его внимательность и забота при этом доходит до мельчайших предметов… А когда он присутствует на лекциях и экзаменах (что очень часто бывает), то у воспитанников и студентов настоящая пасха на душе» [Трофимчук, 2005, 257–258].
По благословению патриарха 14 декабря 1951 г. в Академии впервые проводился вечер памяти святителя Филарета митрополита Московского и Коломенского (Фила-ретовский вечер. — В. С. ), на котором традиционно сам Святейший зачитывал доклад. «В завершение встречи патриарх вместе со всей академической семьей молился, слушал проповедь очередного учащегося и каждому преподавал благословение» [Трофимчук, 2005, 121]. Произнесение проповеди после общих вечерних молитв, как одного из основных практических занятий для студента семинарии, стало обязательным в Академии после особого распоряжения Святейшего Алексия в 1957 г. [Трофимчук, 2005, 175].
В целях повышения качества образования и грамотности Святейший учредил денежные премии для лучших студентов Академии и семинарии. «Были учреждены три премиальных фонда: 1-й фонд — имени Свято-Троицкой Сергиевой лавры; 2-й фонд — имени митрополита Филарета (Дроздова); 3-й фонд — имени Патриарха Сергия» [Трофимчук, 2005, 125].
Трудами Патриарха в МДА были воссозданы библиотека и читальный зал «со множеством современных художественных журналов и газет, что способствует всестороннему развитию будущих священнослужителей» [Ружицкий, 1963, 72]. Также по патриаршему указанию Хозяйственным управлением выделялись специальные средства для создания нормальных бытовых условий для студентов, а также удовлетворения их культурных потребностей.
Важнейшей составляющей в деле духовного образования и просвещения является храм и его богослужение. Патриарх всегда особо подчеркивал это в своих проповедях с амвона и в обращениях с академических кафедр. В этой связи восстановление домового храма Московской академии являлось одной из первоначальных задач, которую поставил Святейший перед руководством самой Академии. Патриарх воспринимал храм «как насущно необходимое, ничем не заменимое в воспитательно-практических целях училище благочестия» [Трофимчук, 2005, 153]. «Святейший патриарх Алексий порицал даже спешное хождение по храму и при случае поучал, приводя наставления своего старца: „При службе мы как бы в положении человека, несущего в руках драгоценный хрустальный сосуд, наполненный до краев водой. И несем его так, чтобы не расплескать и донести в целости“» [Трофимчук, 2005, 166]. Особое внимание со стороны Святейшего уделялось церковному пению, которое «должно быть церковным не только по названию и чтобы, в угоду малоцерковным или совсем нецерковным регентам, не исполнялись песнопения, чуждые церковному духу» [Никонов, 1952а, 26]. В 1955 г. на престольный праздник Академии патриарх Алексий высказал пожелание отцу ректору, чтобы регент хора стоял к алтарю лицом [Трофимчук, 2005, 168]. Этим решением Святейший подал учащимся очередной урок благочестия и порядка во время службы.
Отдельно нужно сказать о скрупулезном отношении Святейшего к подбору кандидатов для принятия священного сана. Так, например, в Московской духовной академии 4 апреля 1955 г. Совет Академии на своем очередном заседании заслушал текст патриаршей резолюции, в которой, в частности, говорилось: «воспитанников семинарии, не достигших 4 класса, следует рукополагать лишь в исключительных случаях и лишь тогда, когда они известны отличным поведением» (АМДА. Ф. 5. Д. 36. С. 2). «18 июня 1955 года на заседании Совета МДА было заслушано письмо патриарха Алексия, в котором речь шла о необходимости создания особой комиссии по ставленникам (кандидат в священный сан. — В. С.) и определялся ее состав. В комиссию вошли наместник Лавры архимандрит Пимен (Извеков), духовник учащих МДАиС, а также доцент священник К. Нечаев. Члены комиссии должны были определять степень подготовленности ставленника к принятию священного сана с нравственной и практической точек зрения» [Светозарский, 2010, 302].
Епископ Дмитровский Филарет (Вахромеев) в бытность своего ректорства в МДА (1966–1973) так отзывался о заслугах патриарха Алексия I перед Академией: «Среди забот Его Святейшества ярко выражена и поучительна для нас ревность к благоустро-ению церковной жизни, неукоснительному соблюдению каноничности, уставности, святых обычаев Церкви Православной. Святейший владыка требует, чтобы в каждом храме было образцовое пение, чтение, благолепное совершение служб, святых таинств и треб. Все эти требования имеют величайшее значение для нашей духовной школы, для наших учащих и учащихся, для проведения образцовых служб в нашем академическом храме, где будущие и начинающие священнослужители приобретают наглядный, непосредственный опыт уставного и благолепного совершения богослужения» [Филарет Вахромеев, 1970, 21].
Подводя определенные итоги, нужно отметить, что на образование самого Святейшего патриарха Алексия имело влияние как сословное его происхождение, так и огромный личный труд в плане постижения светских и духовных наук. Значительное влияние оказал пример (как важнейшая составляющая процесса образования) родственников и духовных наставников. В этой связи, занимая различные должности в Русской Православной Церкви, Святейший всегда предпринимал массу усилий для развития сферы образования будущих священнослужителей, сам являясь примером для таковых. На протяжении своего первосвятительского служения, бывая в Троице-Сергиевой лавре, он регулярно участвовал в жизни самой Академии, посещая лекции, экзамены и торжественные акты. Слова Святейшего в эти дни были обращены к учащимся с призывом «быть духовно просвещенными пастырями, усердными и благоговейными работниками на ниве Христовой» [Талин, 1962, 75]. Живой пример веры, отеческая любовь к воспитанникам — эти качества патриарха всегда особо подчеркивались студентами МДА. Имея прекрасный организаторский талант, Святейший сумел возродить родную Академию и вывести ее на качественно новый уровень. В новейшую историю он навсегда вошел как созидатель и устроитель духовного просвещения Русской Церкви.
В качестве заключения приведем слова ректора Московской духовной академии прот. Алексия Остапова, произнесенные им на литургии 14 июня 1964 г., в день празднования юбилея возрождения МДА. «Мысль о возрождении духовных школ и немалые труды по их организации принадлежат Святейшему патриарху Сергию. Но само открытие и два десятилетия деятельности духовных школ озарены отеческим вниманием и постоянной заботой ныне здравствующего Святейшего патриарха Алексия. Московская академия нередко именуется „патриаршей*1, и это действительно так. Любовь Святейшего владыки к духовным школам и Лавре безгранична. Дух церковности, пастырская целеустремленность воспитания и образования, верность своей Родине — вот основные черты Московской духовной академии и семинарии, и эти качества насаждены щедрой рукой первостоятеля нашей Церкви» [Трофимчук, 2005, 271].
Список литературы Патриарх Алексий I: к вопросу об образовании
- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. 550. Оп. 1. Д. 542.
- ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 765. К. 3. Ед. хр. 44.
- АМДА — Архив Московской духовной академии. Ф. 3. Д. 14 «Личное дело прот. Савинского С. В.»
- АМДА. Ф. 5. Д. 3 «Журнал № 2 Общего Собрания Советов Православного Богословского института и Богословско-пастырских курсов от 19 июля 1944 г.»
- АМДА. Ф. 5. Д. 36 «Журнал заседаний Ученого Совета №5 от 4 апреля 1955 г.»
- Устав (2020) — Устав Русской Православной Церкви. http://www.patriarchia.ru/db/ document/133114/page2.html (дата обращения: 18.07.2021).
- Патриарх Алексий I (1948) — Алексий I (Симанский Сергей Владимирович). Слова, речи, послания, обращения, доклады, статьи: в 4 т. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 1948-1964. Т. I. 248 с.
- Письма (2009) — Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православнои Церкви при Совете Народных Комиссаров — Совете Министров СССР. 1945-1953 гг. Т. I. М., 2009. 847 с.
- Арсений Стадницкий (2012) — Арсений (Стадницкий), митр. Дневник / [Подгот. и ред. О. Н. Ефремова]. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. Т. 2: 1902-1903: [по материалам ГАРФ]. 530 с.
- ЖМП (1957) — Первосвятитель Русской Церкви (к 80-летию со дня рождения Святейшего патриарха Алексия) // Журнал Московской Патриархии. М., 1957. № 11. С. 25-55.
- Никонов (1952а) — НиконовВ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий // Журнал Московской Патриархии. 1952. № 3. С. 5-29.
- Никонов (1952б) — Никонов В. К 75-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Алексия // Журнал Московской Патриархии. 1952. № 11. С. 30-32.
- Одинцов (2000) — ОдинцовМ.И. АЛЕКСИЙ I (Симанский Сергей Владимирович) // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. Т. I. С. 676-690.
- Пукшанский (2016) — Пукшанский Б.Я. О роли просвещения в современном образовании // Записки Горного института. 2016. Т. 221. С. 766-772.
- Рожнева (2016) — Патриарх Алексий I (Симанский) / Сост. О. Л. Рожнева. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. 176 с.
- Ружицкий (1963) — Ружицкий К.И., прот. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий // Журнал Московской Патриархии. 1963. № 1. С. 62-72.
- Светозарский (2010) — Светозарский А.К. Московские духовные школы в 1917-1964 годах // Московской духовной академии 325 лет: Юбилейный сборник статей: в 2 т. Т. 1. Кн. 1: История Московской духовной академии. 1685-1995 / Под общ. ред. архиеп. Верейского Евгения, проф. М.: МДА, 2010. С. 257-393.
- Талин (1962) — Талин В. Духовно-учебная деятельность Святейшего патриарха Алексия // Журнал Московской Патриархии. 1962. № 3. С. 71-76.
- Трофимчук (2005) — ТрофимчукМ.Х. Академия у Троицы. Сергиев Посад: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2005. 639 с.
- Филарет Дроздов (2017) — Вера спасает человека. По творениям святителя Филарета Московского. / Сост. Санчес И. М.: Изд-во Благовест, 2017. 160 с.
- Филарет Вахромеев (1970) — Филарет (Вахромеев), еп. Московские духовные школы под руководством Святейшего патриарха Алексия // Журнал Московской Патриархии. 1970. №2. С. 17-22.
- Шаповалова (1945) — Шаповалова А. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий // Журнал Московской Патриархии. М., 1945. № 2. С. 93-99.