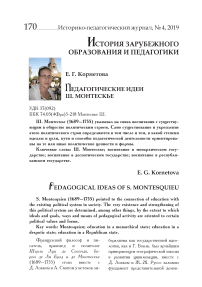Педагогические идеи Ш. Монтескье
Автор: Корнетова Екатерина Григорьевна
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История зарубежного образования и педагогики
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Ш. Монтескье (1689-1755) указывал на связь образования с существующей политической системой в обществе. Само существование и укрепление этой политической системы определяются, помимо прочего, тем, насколько идеалы и цели, способы и средства педагогической деятельности ориентированы на определенные политические ценности и формы.
Ш. монтескье, воспитание в монархическом государстве, воспитание в деспотическом государстве, воспитание в республиканском государстве
Короткий адрес: https://sciup.org/140249312
IDR: 140249312 | УДК: 37(092)
Текст научной статьи Педагогические идеи Ш. Монтескье
E. G. Kornetova
FEDAGOGICAL IDEAS OF S. MONTESQUIEU
S. Montesquieu (1689–1755) pointed to the connection of education with the existing political system in society. The very existence and strengthening of this political system are determined, among other things, by the extent to which ideals and goals, ways and means of pedagogical activity are oriented to certain political values and forms.
Французский философ и пи- сатель, правовед и политолог Шарль луи де Секонда, барон де ля Брэд и де Монтескье (1689–1755) стоял вместе с Д. Локком и А. Смитом у истоков ли- берализма как государственной идеологии, как и Г. Бокль. был ярчайшим приверженцем географической школы в развитии цивилизации, вместе с Д. Локком и Ж.-Ж. Руссо заложил фундамент представительной демок- ратии, сформулировал идею разделения властей.
Ш. Монтескье принадлежал к числу самых значительных и влиятельных представителей французского просвещения. По словам Г. Б. Корнетова, «в эпоху Просвещения, уже одним своим названием свидетельствующую о приоритетности педагогической проблематики в западноевропейском сознании ^VIII в., о пристальном внимании к вопросам образования, получили законченное выражение многие тенденции, ясно обозначившиеся в предшествующее столетие. Именно в это время особенно интенсивно разрабатывалась идея, утверждавшая возможность рациональной организации социальных отношений, переустройства общественной жизни на разумных началах. В педагогике Просвещения нашли отражение все сильные и слабые стороны мировоззрения эпохи. Рост внимания к педагогической проблематике в ^VIII в. объяснялся верой идеологов Просвещения в возможность преобразования общества в соответствии с умопостигаемой природой человека посредством просвещения народа, воспитания “особой породы людей”, способных организовать социальную жизнь на разумных началах. <…> Франция эпохи Просвещения лишь двигалась навстречу революционным преобразованиям. <…> Французские просве- тители пытались доказать, что, обращаясь к человеческому разуму, давая людям должное воспитание, создавая благоприятную среду их жизни, можно согласовать экономические и социальные интересы людей, обеспечить общественную справедливость и свободу»1.
Педагогическим проблемам Ш. Монтескье посвятил четвертую книгу своего главного труда «О духе законов» (1748), назвав ее «О том, что законы воспитания должны соответствовать принципам образа прав-ления»1. Уже само название раздела свидетельствует о том, что французский просветитель в своих педагогических построениях следовал традиции, развиваемой в Древней Греции Платоном и Аристотелем. Эти античные мыслители рассматривали педагогическую деятельность в структуре деятельности политической, связывая с ней прежде всего решение проблем формирования достойных граждан государства.
Размышляя об особенностях современного ему воспитания, Ш. Монтескье указывал, что «мы получаем воспитание из трех различных и даже противоположных друг другу источников: от наших отцов, от наших учителей и от того, что называют светом. И уроки последнего разрушают идеи двух первых. Это отчасти происходит от существующего у нас противоречия между требованиями религии и правилами света – явления, неизвестного древним» (с. 191).
Прежде всего, Ш. Монтескье обращает внимание на то, что «законы воспитания – это первые законы, которые встречает человек в своей жизни. И <…> законы эти подготавливают нас к тому, чтобы стать гражданами» (с. 187). Тем самым он утверждает выдающуюся роль воспитания в жизни человека и общества. Подчеркивая, что «каждая семья должна управляться по образцу великой семьи, охватывающей все отдельные семьи», французский просветитель провозглашает: «Если весь народ живет каким-нибудь принципом, то все его составные части, т. е. семейства, живут тем же принципом. Поэтому законы воспитания должны быть различными для каждого вида правления; в монархиях их – предметом будет честь, в республиках – добродетель, в деспотиях – страх» (с. 183). Таким образом, Ш. Монтескье связывает то, каким должно быть воспитание, с тем политическим строем, какой существует в государстве, ибо каждый строй требует особый тип гражданина. Так, он пишет: «Для того, чтобы охранять и поддерживать монархическое или деспотическое правительство, не требуется большой честности. Все определяет и сдерживает сила законов в монархии и вечно подъятая длань государя в деспотическом государстве. Но народное государство нуждается в добавочном двигателе; этот двигатель – добродетель» (с. 179). Свое понимание республиканской добродетели он излает следующим образом: «В республике добродетель есть очень простая вещь:
это – любовь к республике, это – чувство, а не ряд сведений. Оно столь же доступно последнему человеку в государстве, как и тому, который занимает в нем первое место. Раз усвоив себе добрые правила, народ держится за них дольше, чем так называемые порядочные люди. Разложение редко начинается с него, и часто из своих скудных познаний он черпает более сильную привязанность к тому, что установлено. Любовь к отечеству порождает добрые нравы, а добрые нравы порождают любовь к отечеству. Чем менее мы можем удовлетворять наши личные страсти, тем более мы отдаемся общим» (с. 196–197).
Отвечая на вопрос, какие педагогические задачи для чего и каким образом должны решаться при монархической форме правления, Ш. Монтескье пишет: «В монархиях воспитание получают в основном не в публичных школах, где обучаются дети; настоящее воспитание начинается для человека лишь со временен его вступления в свет. Свет – вот та школа, где мы знакомимся с тем, что общим нашим наставником и руководителем, имя которому – честь. В этой школе мы постоянно видим и слышим три вещи: “нужно известное благородство и добродетели, известная искренность в нравах и известная учтивость в обращении”. Добродетели, примеры которых мы видим здесь, всегда говорят нам менее о наших обязанностях к другим, чем о наших обязанностях к самим себе, сколько то, что отличает нас от них. В поступках здесь ценят не доброе чувство, а показную красоту, не справедливость, а широту размаха, не благоразумие, а необычайность. <…> Что же касается до нравов, то <…> монархическое воспитание должно внести в них известную долю искренности и прямоты. Там, следовательно, требуют правды от речей человека. Но из любви ли к самой правде? Вовсе нет, а только потому, что человек, привыкший говорить правду, кажется смелым и свободным. И в самом деле, создается впечатление, что такой человек считается только с действительным положением вещей, а не с мнением людей о нем. Вот почему там столько же ценят прямоту подобного рода. Сколько презирают прямоту народа, основанную на лишь на простодушии и правдивости. Наконец, воспитание в монархиях требует известной учтивости в обращении. Люди созданы для совместной жизни, и поэтому они должны нравиться друг другу. Человек, который стал бы оскорблять своих ближних несоблюдением правил приличия, уронил бы себя в общественном мнении до такой степени, что лишил бы себя возможности быть полезным. Но не из этого чистого источника проистекает обыкновенно учтивость. Ее порождает желание отличиться. Мы учтивы из чванства: нам льстит сознание, что самые приемы нашего обращения доказывают, что мы не принадлежим к низшим слоям общества и никогда не знались с этой породой людей. <…> На все это и обращает свои усилия воспитание, чтобы образовать так называемого порядочного человека, т. е. такого, который обладал бы всеми желательными для этого образа правления качествами и добродетелями. Здесь все проникнуто понятием чести – оно пронизывает всякий образ мыслей, каждое чувство, оно определяет даже принципы. <…> Ничто в монархии не предписывается так настоятельно религией, законами и честью, как повиновение воле государя; но эта честь в то же время подсказывает нам, что государь никогда не должен требовать от нас действия, несогласного с честью, так как это лишило бы нас способности служить ему» (с. 187–189).
Ш. Монтескье различает то, каким должно быть воспитание в монархическом и деспотическом государствах. Последнее он характеризует следующим образом: «Как в монархических государствах воспитание стремится вселить в сердца дух высокомерия, так в деспотических государствах оно старается их унизить. Оно должно быть проникнуто духом рабства. Хорошо, если в этом духе воспитаны здесь и начальствующие, ибо в этом государстве всякий тиран в то же самое время и раб. Безоговорочное повиновение предполагает невежество не только в том, кто повинуется, но и в том, кто повелевает: ему незачем размышлять, сомневаться и обсуждать, когда достаточно только приказать. В деспотических государствах каждый дом – отдельное государство. Поэтому задача воспитания, заключающаяся главным образом в том, чтобы научить искусству жить с Другими людьми, там очень ограничена: она сводится к тому, чтобы вселить в сердца страх, а умам сообщить познание некоторых самых простых правил религии. Знание там было бы опасно, соревно- вание гибельно, что же касается добродетелей, то, по мнению Аристотеля, нет ни одной добродетели, которая была бы свойственна рабам; все это очень суживает задачи воспитания в этом строе. В известном смысле воспитание там совсем отсутствует. Надо лишить человека всего, чтобы дать ему нечто, и сначала сделать из него дурного подданного, чтобы потом получить хорошего раба. Да и зачем стараться там воспитать хорошего гражданина, чуткого к общественным бедствиям? Ведь любовь к государству может увлечь его к попыткам ослабить бразды правления, и если это ему не удастся, то он погубит себя; а если удастся, то он рискует погубить и себя самого, и государя, и государство» (с. 190–191).
Наконец, Ш. Монтескье пишет о том, какое воспитание соответствует потребностям республиканского государства: «Ни одно правление не нуждается в такой степени в помощи воспитания, как республиканское правление. Страх в деспотических государствах зарождается сам собою под влиянием угроз и наказаний; честь в монархиях находит себе опору в страстях человека, и сама служит им опорой; но политическая добродетель есть самоотверженность – вещь всегда очень трудная. Эту добродетель можно определить как любовь к законам и к отечеству. Эта любовь, требующая постоянного предпочтения общественного блага личному, лежит в основании всех частных добродетелей: все они представляют собою не что иное, как это предпочтение. Эта любовь получает особенную силу в демократиях. Только там управление государством вверяется каждому гражданину. Но правительства подчинены тому же закону, что и все вещи в мире. Чтобы их сохранить, надо их любить. Нам никогда не приходилось слышать, чтобы государь не любил монархии, а деспот ненавидел деспотизм, Дело, следовательно, в том, чтобы водворить в республике эту любовь, ее-то и должно прививать воспитание. Но лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов. Человек обыкновенно способен передавать детям свои познания; в еще большей степени он способен передавать им свои страсти. Если же этого не происходит, то это значит, что все внушаемое в родительском доме разрушается влияниями, приходящими извне. Народ вырождается не в пору своего зарождения; он погибает лишь тогда, когда зрелые люди уже развращены» (с. 191–192).
Таким образом, Ш. Монтескье не только указывал на связь воспитания с существующим в обществе политическим строем, но и связывал само существование и укрепление этого политического строя с тем, в какой степени идеалы и цели, пути и способы педагогической деятельности ориентированы на те или иные политические ценности и формы. Эта установка Ш. Монтескье оказала (и продол- жает оказывать) огромное влияние на развитие педагогической теории и практики.
Так, уже его младший современник
Ж.-Ж. Руссо в работе «Соображения об образе правления в Польше и предлагаемые преобразования в сем правлении» (1771–1772), продолжая традицию Ш. Монтескье, писал: «Именно воспитание призвано фор- мировать национальное самосознание и так направлять мнения и вкусы граждан, чтобы те были патриотами по склонности, по страсти, по необходимости. Ребенок в миг своего рож- дения должен увидеть родину и до самой смерти не должен желать ничего, кроме родины. Всякий истинный республиканец с молоком матери впитал в себя любовь к отечеству, то есть к законам и свободе»1.
Деятели Великой французской революции, начавшейся в 1789 г., пытаясь в духе идей Ш. Монтескье создать систему образования, которая соответствовала новым государственным идеалам и способствовала бы воспитанию граждан нового республиканского государства, разработали, представили и приняли множество законопроектов, призванных обеспечить решение этой задачи2. Идеи Ш. Монтескье о прямой зависимости воспитания от государственного устройства и сегодня продолжают влиять на образовательную политику современных государств.
Список литературы Педагогические идеи Ш. Монтескье
- Корнетов, Г. Б. История педагогики за рубежом с древнейших времен до начала XXI века: монография / Г. Б. Корнетов. - М.: АСОУ, 2013. - 438 с.
- Монтескье, Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье; пер. с фр. А. Г. Горнфельда, М. М. Ковалевского, А. И. Рубина // Избранные произведения. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. - 635 с.
- Монтескье, Ш. Л. Опыт о вкусе в произведениях природы и искусства / Ш. Л. Монтескье; пер. с фр. О. В. Моисеенко // Избранные произведения. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. - 348 с.
- Педагогические идеи великой французской революции: речи и доклады / перевод и вступ. статья О. Е. Сыркиной; под ред. А. П. Пинкевича. - М.: Работник просвещения, 1926. - 240 с.
- Руссо, Ж.-Ж. Соображения об образе правления в Польше и предлагаемые преобразования в сем правлении / Ж.-Ж. Руссо; пер. И. Я. Волевич, М. М. Маянц // Педагогические сочинения: в 2 т. - М.: Педагогика, 1981. - Т. 2. - С. 178-187. - С. 183-184.