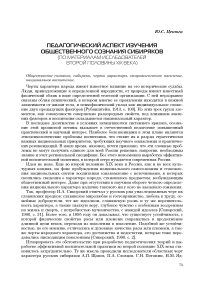Педагогический аспект изучения общественного сознания сибиряков (по материалам исследователей второй половины XIX века)
Автор: Ценюга Юлия Сергеевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Сибирь для большинства исследователей - не только естественно-географическое, природное понятие или совокупность факторов, наложивших печать на физический облик населения, но и явление психическое, запечатленное в материальной и духовной культуре, этнопсихологических чертах коллективного характера народа.
Общественное сознание, сибиряки, черты характера сибиряков, старожильческое население, национальное воспитание
Короткий адрес: https://sciup.org/144153032
IDR: 144153032
Текст научной статьи Педагогический аспект изучения общественного сознания сибиряков (по материалам исследователей второй половины XIX века)
Черты характера народа имеют известное влияние на его исторические судьбы. Люди, принадлежащие к определенной народности, от природы имеют известный физический облик в виде определенной телесной организации. С ней неразрывно связаны облик психический, в котором многие ее проявления находятся в важной зависимости от жизни тела, и психофизический уклад как индивидуальное сложение двух предыдущих факторов [Рубинштейн, 1913, с. 100]. Из этих трех групп элементов, как совокупности совершенно разнородных свойств, под влиянием внешних факторов и воспитания складывается национальный характер.
В последнее десятилетие в условиях затянувшегося системного кризиса, осознание этой прописной истины вызывает в отечественной педагогике повышенный практический и научный интерес. Наиболее болезненными в этом плане являются этнопсихологические проблемы воспитания, что ставит их в разряд стратегически важных национальных приоритетов, требующих научного осмысления и практических рекомендаций. В наше время, наконец, почти признано, что эти сложные проблемы не могут получить единого для всей России решения, напротив, необходимы знание и учет региональной специфики. Без этого невозможна выработка эффективной воспитательной политики, в которой остро нуждается современная Россия.
Идея не нова. Еще во второй половине XIX века в России, как и во всех культурных нациях, на фоне пробуждения национального самосознания и становления национальных систем воспитания ознакомление с источниками, в которых скопились сведения о характере народа, становилось предметом, возбуждающим общественный интерес. Даже при отсутствии в научном обороте четкого определения национального характера наличие такового ни у кого не вызывало сомнения.
Так, профессор И.А. Сикорский отмечал у русских ряд унаследованных черт их славянских предков: славянское миролюбие и гостеприимство, любовь к труду, семейные добродетели, тот же идеализм, славянскую рознь и ту же нерешительность характера, а также пылкую веру, глубокое чувство с особенным воззрением на жизнь и смерть, с потребностью мученичества, с жаждой идеалов [Сикорский, 1900, с. 31]. Более того, в 1895 году он доказывал, что существует устойчивость, с которой физические свойства расы или племени сохранялись в продолжение длинной цепи веков, переходя из поколения в поколение. Подобной же устойчивостью, по его мнению, отличались и духовные качества расы или племени, а также черты народного характера, его достоинства и недостатки, которые тоже передавались нисходящим поколениям [Сикорский, 1900, с. 2].
Игнорировать это обстоятельство при разработке педагогических теорий и выработке эффективной воспитательной практики во второй половине XIX века становилось затруднительно. Ту же мысль проводили исследователи областных черт характера русских сибиряков А.П. Щапов, П.А. Словцов, Г.Н. Потанин, Н.М. Яд- ринцев, но при этом указывали на огромные физические и психологические адаптационные изменения у русских сибиряков по отношению к великорусской народности. Корни этих изменений они объясняли влиянием метизации с инородческим населением, культурной восприимчивости первопоселенцев через взаимную материальную, духовную культурную ассимиляцию и влиянием специфических условий сибирской жизни. В борьбе с суровостью сибирского климата у сибиряков изменялись и физический облик, и психическое состояние, что в совокупности влияло на формирование черт характера сибиряков.
Так, в условиях более экстремальной среды славянская склонность к внутреннему нравственному анализу у сибиряков приобрела несколько другой оттенок. Внутренний анализ у сибиряка чаще происходил не в нравственной сфере, а обнаруживал признаки реалистического утилитарного направления мысли. Как у протестантов в Европе, у сибиряков, в отличие от «российских» русских, отсутствовал внутренний конфликт духа и разума. Причину этого отличия в культуре мышления Н.М. Ядринцев видит в том, что ум великоросса формировался под влиянием историко-традиционного воспитания, а ум сибиряка непосредственно-натуральной дрессировкой в ходе выживания в экстремальных условиях Сибири. За умонастроением великоросса стоит продолжительный тысячелетний исторический опыт, отчасти культурное влияние европейски образованного класса. В умонастроении сибиряка отпечаталось влияние дикой сибирской природы [Ядринцев, 1882, с. 60]. Поэтому он менее развязан в своих суждениях, нежели российский человек, умственный кругозор которого шире, эмпирические знания разнообразнее, рассудочные способности более культивированны и развиты. Сибиряк – первобытнее, сдержаннее в суждениях. Ум его менее развит и гибок. В умственных упражнениях ему нужна реальность, поскольку, логические приемы его мышления менее развиты, ассоциации идей не так многосложны, как у великоросса. Углубленность в себя у сибиряков другого свойства, нежели у великоросса. Это не признак упражнения в нравственном анализе. В сибирском народе оно обрело черты осознанной закрытости, здравой рассудочности, преобладающей над чувством.
Холодно-рассудочная, практическая расчетливость сибиряков в форме преобладающей наклонности к реалистичному и положительному взгляду на вещи подавляет в них почти всякое идеалистическое умонастроение [Ядринцев, 1882, с. 59]. Сибиряки большей частью, указывает Щапов, вообще забыли всю древнерусскую старину, все эпические сказания и былины великорусского народа, даже большую часть великорусских верований или суеверий, примет и обрядов.
Любопытное своеобразие это нашло в песенной культуре старожильческого населения, что отмечали краеведы Е.А. Авдеева и Н.М. Ядринцев. Песни, занесенные переселенцами с Днепра, Волги или Северной Двины и Камы, в Сибири почти забыты или пелись несколько своеобразно, как-то уныло, монотонно, более низкими нотами, с меньшими вариациями голоса, они даже несколько похожи на песни татар «или бурят в степи, или христарадную, милостную песню арестантских партий» [Авдеева, 1837, с. 42; Ядринцев, 1882, с. 37].
По мнению Г. Потанина, в уме русского жителя Сибири вообще живет неизгладимое сознание, что он непричастен к народу, создавшему русское государство и русскую литературу. Чувство обособленности, которое неизбежно должно было явиться на новой территории, должно было вызвать законное и полезное стремление к соревнованию с другими русскими областями» [Потанин, 1907, с. 38]. При этом они считали себя русскими, а к коренным «российским» русским относились, как к иностранцам. На этой почве антагонизм между переселенцами и старожи-лами-«чалдонами», явно или неявно, всегда существовал в сибирских деревнях. Обе стороны негативно отзывались друг о друге. Российский крестьянин в опорках в понятиях о нравственности твердо был уверен в своем превосходстве над «чалдоном». Сибиряков уничижительно награждали прозвищем «сибирЯки», с ударением на букву «я». Впрочем, сибиряки платили им той же монетой.
В силу вышеперечисленных обстоятельств к историческим судьбам России сибиряки были холодны. Любые политические или иные события в России не возбуждали в сибиряке особого патриотизма, скорее безразличие или раздражение нарушением размеренного ритма сибирской жизни. В самоидентификации граница между «Мы» и «Они» у сибиряка всегда проходила по «уральскому камню».
Существенно отличались сибиряки в отношении к родной природе и окружающей обстановке. У русских, как отмечал И.А. Сикорский, культура духа, в противоположность культуре природы, составляла отличительную черту славянского национального гения [Сикорский, 1900, с. 33]. Окружающая обстановка мало интересовала русского человека с точки зрения аналитических упражнений. Он обходился без внешнего комфорта, без изящества, довольствуясь простотой, не искал удобств и всему предпочитал теплую душу и открытое сердце.
По-мнению сибирских областников, коренной сибиряк вообще смотрел на родную природу, как «на мертвую массу», не заселял ее лешими, русалками и даже никогда не задумывался, на чем земля стоит. Она не являлась источником умственного развития или предметом интеллектуальных упражнений, а только источником материальных благ. Она не храм, а мастерская, «кормовая территория», источник жизни.
Главный признак сибиряка – это отсутствие всякой любви, привязанности к какой-либо местности и связи с каким-нибудь живым и действительным народным интересом, который не мог совершиться вне какой-нибудь местности при постоянно кочующем состоянии. «В отсутствии какого бы то ни было сердечного прикрепления к данной местности и, так сказать, в свободном витании гражданина, где он хочет, в том положении, когда он свободен в выборе своей деятельности, и, как существо духа, имеет своим отечеством только дух и мир идей», – писал Н.М. Ядринцев [Ядринцев, 1916, с. 97]. Сибиряк всегда искал, где лучше. Для него это не конкретный географический пункт, а вся Сибирь.
Сибирь – это еще и люди, человеческие отношения. Сибиряк – ярко выраженный индивидуалист. «Каждый живет особняком», по принципу человек человеку – средство. Коллективное начало, кроме семейного, было «малоразвито». Да и семья им воспринималась скорее как хозяйственная единица, а ее члены как работники, а уже затем как родственники.
У сибирских крестьян стало нормой постоянное соперничество в ведении домохозяйства, землепашестве, достижении уровня жизни, повседневном поведении. Сибиряк постоянно стремился выглядеть в глазах односельчан, окружающих радушным и хлебосольным хозяином, сострадающим «сироте и убогому», но исходило это от желания быть не хуже других, своеобразного бахвальства достатком. Быть бедным и убогим в Сибири, в отличие от России, считалось неприличным. Убогого и обездоленного сибиряк автоматически ставил ниже себя по социальному статусу, отводил себе роль покровителя.
В отношениях с «обчиством» (общиной старожилов родного села) он старался соблюдать неписаные нормы общежития. Пользовался удерживающим от проступков принципом: «В родной деревне без соседского глаза до ветру не сходишь».
Любой проступок сразу становился общим достоянием, после чего следовало осуждение или суровое внесудебное наказание. С чужаками, потравившими покос, нарушившими засеку охотничьих угодий или отвода золотодобычи, разбирались по «закону тайги».
Развитое естественное человеческое чувство делало сибиряков беспристрастными и позволяло устанавливать правильные отношения к другим национальностям. Это выражалось в веротерпимости, гостеприимстве и примирительном отношении к иной культуре. Но до известных пределов. Исторически наиболее тесные и добрососедские контакты складывались с теми сибирскими народами, которые, по мнению русских сибиряков, обладали чертами сильной, морально выдержанной воли: «отличались трудолюбием», самоуважением, великодушием и одновременно ценили взаимопомощь, уважали родителей, почитали предков. Людей, в том числе и начальников, приезжавших в Сибирь не для того, чтобы пустить здесь корни, обзавестись хозяйством, растить детей, а исключительно для скорой наживы, сибиряки отторгали, презрительно называли «бухарцами». Причем этот ярлык навешивался вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности.
Другой отличительной чертой национального характера русских, и сибиряков в том числе, по мнению большинства исследователей XIX века, нужно считать терпение, выраженное в напряжении воли, направленной на подавление физического или нравственного страдания. Отсутствие сентиментальности, стоическая покорность судьбе и готовность страдать, если это необходимо, составляли самый характерный облик русского терпения. Потребность мученичества выступала как необходимая психологическая практика и внутреннее приготовительное упражнение, без которых невозможна адаптация к суровой сибирской среде.
Самым важным плодом терпения у русского народа являлись самообладание, способность подавить в себе волнения и внести мир в собственную душу. Основываясь на этом чувстве, сибиряк был чужд житейской суеты, уравновешен и спокоен, жил здесь и сейчас. В борьбе за выживание при постоянном соревновании и соперничестве в старожилах вырабатывались любознательность, предприимчивость, практический ум, «удивительная выносливость и настойчивость, необыкновенная терпимость в трудах, мужество в опасностях» и, к сожалению, взаимное хищничество, выражающееся в загрубелости и бесчувствии к различным обстоятельствам своей и чужой жизни.
Едва ли уместно говорить о будущности народа, обладающего столь разными, нередко и сегодня узнаваемыми чертами национального сибирского характера, только отчасти обозначенными исследователями XIX века и обобщенными нами в данной работе. Можно утверждать, что мы, как и наши далекие предки, полны веры в лучшее будущее нашей Родины и способны его приближать, руководствуясь в воспитании наших детей простым и в то же время тонким инстинктом физического и нравственного самосохранения.