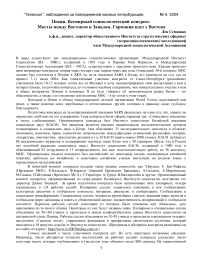Пекин. Всемирный социологический конгресс. Мосты между Востоком и Западом. Гармония идет с Востока
Автор: Семашко Лев
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 4, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181578
IDR: 142181578
Текст краткого сообщения Пекин. Всемирный социологический конгресс. Мосты между Востоком и Западом. Гармония идет с Востока
В мире существуют две международные социологические организации: Международный Институт Социологии (IIS - МИС), созданный в 1893 году в Париже Рене Вормсом, и Международная Социологическая Ассоциация (ISA – МСА), существующая с середины прошлого века. Каждая проводит свои всемирные конгрессы: вторая через четыре года, первая через два года. Очередной, 36-й конгресс МИС должен был состояться в Пекине в 2003, но из-за эпидемии SARS в Китае, его перенесли на год, где он прошел 7-11 июля 2004. Как единственный участник конгресса от Санкт-Петербурга (российских участников было 10-12 человек, почти все из Москвы) я хочу сконцентрировать свои впечатления о нем в четырех блоках: подготовка конгресса, его основное идейное содержание, мое концептуальное участие в нем и общее восприятие Пекина и пекинцев. Я не буду говорить об экономическом рывке Китая – это общеизвестно, а также о его политике или политике МИС – я не готов к этим темам.
Поездкой в Пекин я обязан международной детской организации World Vision, выделившей мне грант, а также помощи моих зарубежных и отечественных друзей, которым я приношу свою глубокую благодарность.
Подготовка конгресса из-за непредвиденной эпидемии SARS продлилась на один год, что, однако, не отразилось особенно на его содержании. Тема конгресса была сформулирована так: «Социальное изменение в эпоху глобализации». Организатором конгресса был Институт социологии Китайской академии социальных наук (КАСН). Эта академия является высшим национальным исследовательским центром гуманитарных и социальных наук в Китае. Она объединяет 33 исследовательских института в областях экономики, политики, права, социологии, антропологии, международных отношений, философии, истории, литературы, лингвистики, археологии, религии и т.п. В КАСН занято свыше 3000 ученых. КАСН публикует 88 академических журналов и поддерживает научные связи более чем с 50 странами. (Жаль, что в России нет подобной академии социальных наук.) Институт социологии КАСН, созданный в 1980 году и объединяющий 82 сотрудника в 13 подразделениях, вел всю подготовительную работу по 36 конгрессу МИС. Официальным языком конгресса был английский, но некоторые сессии, посвященные китайской тематике, работали на китайском, а некоторые китайские ученые выступали на родном языке с переводчиком на английский.
В почетный комитет конгресса входили такие видные социологи, как З.Бауман, Е. Бен-Рафаэль (Президент МИС), К.Кальхаун, Ф.Кардозо (бывший Президент Бразилии), А.Гидденс, А.Мартинелли, М.Сасаки, П.Штомпка (Президент МСА), Г.Тернборн, А.Турен, И.Валлерстейн и другие. Организационный комитет конгресса, сформированный из сотрудников Китайского Института социологии, возглавлял его директор Джинг Тианкуй. За время подготовки конгресса было организовано пять пленарных, четыре специальных и 124 рабочих сессий. Пленарные сессии: социальное изменение в век глобализации; культурные различия в глобальном контексте; миграция, равенство и глобализация; Глобализация и социальная трансформация. Специальные сессии: четыреста крупнейших городов: вершина мира; религия в глобальном мире; женщины и власть в общественной жизни; множественность модернизаций в глобальном контексте. Перечень рабочих сессий, некоторые из которых были отменены или обновлены, дать невозможно из-за своего обилия. Некоторые из них будут названы ниже. Пленарные и специальные сессии объединяли по 50-100 ученых и проходили в новом комфортабельном здании Института социологии на центральной улице Пекина. Рабочие сессии объединяли по 10-50 ученых и проходили в роскошном четырехзвездочном «Садовом отеле», украшенном фонтанами и прекрасными цветочными клумбами, который находится в 10 минутах ходьбы от Института социологии. (Программа и абстракты конгресса размещены на его сайте по адресу: )
Точных сведений о числе участников конгресса нет. Но есть некоторые косвенные сведения. Например, число абстрактов (тезисов) выступлений на рабочих сессиях конгресса составляет около полутора тысяч, которые опубликованы в увесистом томе объемом около 800 страниц. На торжественной церемонии открытия конгресса, которая проходила 7 июля в холле Дворца Народных Собраний КНР на центральной площади Пекина Тяньанмень, присутствовало свыше двух тысяч человек, из которых примерно половину составляли хозяева, а половину другой половины составляли представители азиатских стран: Индии, Японии, Филиппин, Тайваня и других. Из западных стран более других были представлены США, Франция, Италия, Голландия, Скандинавские страны.
Торжественная церемония открытия конгресса, с одной стороны, венчавшая его подготовку, а, с другой, ставшая началом его работы, включала четыре действия: приветствия различных правительственных и научных организаций, основные тематические выступления, банкет и концерт. Первая часть была чисто формальной. Во второй части привлек внимание «Пекинский Манифест социального развития социологов мира», представленный Организационным комитетом конгресса.
В нем говорится, что социологи, собравшиеся со всего мира в Пекин на 36-й конгресс МИС и представляющие международные и неправительственные организации, призывают установить новую международную систему мира, справедливости, взаимозависимости и совместного развития, а также осуществить цели, утвержденные Саммитом тысячелетия ООН. В Манифесте семь разделов.
Первый - «Принцип новой международной системы» - призывает людей, независимо от их пола, национальности, этноса, религии и культуры, признать принцип равенства, взаимного блага, сосуществования, сотрудничества и совместного развития.
Второй – «Экономический рост и социальное развитие» - повторяет старый марксистский тезис о том, что экономический рост определяет социальное развитие, но тут же делается оговорка, что «конечной целью и подлинным содержанием развития является социальный прогресс и счастье людей». (Прошлый век доказал, что экономический рост определяет только рост богатства ТНК и олигархов, но никак не социальный прогресс и счастье людей, которые не сводятся к экономическому измерению.)
Третий – «Национальное и региональное развитие» - констатирует углубление разрыва в развитии разных стран и регионов в рамках экономического роста и призывает развивающиеся страны повысить ВВП и улучшить социальное благосостояние за счет реформ политической структуры и экономической системы.
Четвертый – «Гуманность и всестороннее, гармоничное и устойчивое развитие» - подчеркивает необходимость социального развития, основанного на гуманности, всесторонности и гармонии, на гармоничном развитии политических, экономических и культурных факторов и на гармоничном отношении между людьми и природой. (Здесь впервые в современной социологии провозглашается ценность социальной гармонии, идея которой является центральной для тетрасоциологии. Отметим также противоречие второго раздела, утверждающего монизм, первичную роль экономики, и четвертого раздела, утверждающего плюрализм и гармонию всех четырех сфер общества. Это противоречие, по-моему, выражает основное противоречие современной китайской идеологии, которая, оставаясь еще марксистской, монистической и классовой, уже включает в себя плюралистическое и общечеловеческое мировоззрение. Идея социальной гармонии является достоянием не марксистского монизма, а традиционного китайского менталитета, что подтверждает, например, храм «Высшей гармонии», с которого начинается старый город китайских императоров. Поэтому идея гармонии является не случайной, а закономерной для Пекинского Манифеста. Манифест обозначил основное противоречие между экономическим ростом и социальным развитием, подчеркнул необходимость их гармонизации.)
Пятый – «Различие в росте доходов» - утверждает быстрый рост пропасти между богатством и бедностью, которая «является угрозой социальному развитию и стабильности». (Экономический рост, обостряющий пропасть между богатыми и бедными, оказывается, как признается здесь, «угрозой социальному развитию и стабильности», что полностью перечеркивает первый тезис второго раздела. Социальное развитие имеет не моно-, а поли-сферное и гармоничное основание, которое исследуется тетрасоциологией.)
Шестой – «Технологическая инновация и увеличение занятости» - констатирует, что технологический прогресс не создает необходимый рост возможностей для занятости, что обостряет проблему занятости во многих странах мира.
Седьмой – «Глобализация и культурное разнообразие» - требует, чтобы экономическая глобализация признавала и уважала культурное разнообразие различных стран и регионов и вела бы к социальной открытости, культурному обмену и оптимальному распределению ресурсов.
Таково основное содержание Манифеста, выражающего идеологию китайских организаторов конгресса, ее противоречия и тенденции.
Банкет запомнился оригинальной и разнообразной китайской кухней, а концерт – выступлением мощного струнного оркестра, неповторимой китайской музыкой и прекрасными голосами китайских певцов.
Охватить огромное идейно-теоретическое содержание конгресса в небольшом обзоре невозможно. Я не ставлю подобной цели. Можно назвать лишь некоторые, субъективно выделенные и запомнившиеся выступления и абстракты. Надо отметить, что из 124 объявленных рабочих сессий работали только 89. По тематике они распределились следующим образом: социологическая теория – 16 сессий; культура и общество – 12, город, среда и технология – 8; женщины, дети и гендер – 8; экономическая социология – 8; население и миграция – 8; социальная структура – 7; политическая социология – 6; социальная девиация и конфликты – 5; социальная политика – 5; количественная социология – 3; другие – 3. Обращает на себя внимание тот факт, что из четырех объявленных сессий по проблемам демократизации осталась одна (№69) с ограниченным числом выступающих. Причины столь неприязненного отношения к этой проблематике китайских организаторов очевидны.
Из многих блестящих пленарных докладов выделю лишь один – президента МИС Элизера БенРафаэля «Глобализация и социальное изменение», который в основном посвящен лингвистическим аспектам глобализации, развивающей элементы общих языков, прежде всего английского. Этот язык стал настолько широко распространенным lingua franca (смешанным языком), как никакой язык прежде. Три современные «т-революции» - телефона, телевидения и транспорта обеспечили его широкое распространение, но породили проблему интерпретации одинаковых слов в разных местах. Миграция в контексте т-революций многократно увеличивает число межнациональных гетерогенных диаспор. Глобализация, которая началась с однообразия, теперь подходит к разнообразию человеческого и культурного пейзажа, к гибридизации культур и конфликтам. «Один мир» оказался фрагментированным, глубоко разделенным и хаотичным. Языки являются хорошими иллюстрациями этих процессов. Контакты разных языков, особенно с преобладающим языком создают их гибридные формы, такие, например, как квебекский, иудео-арабский, французский арабский в Алжире и т.п. Английский как первый смешанный язык всюду получает специфическую окраску: индийскую, немецкую, израильскую и т.п. Причем многие из этих вариантов английского языка становятся взаимно непонятными. (Бен-Рафаэль почему-то исключил более простую и эффективную альтернативу признания в качестве языка международного общения искусственного языка эсперанто, который выдержал более чем вековую проверку. Переходным этапом мог бы стать этап международного билингвизма – одновременного использования двух языков международного общения: английского и эсперанто. Эта альтернатива преодолевает «непонятность» разных вариантов английского. Она рассматривается в моей книге 2003 года, изданной на трех языках: русском, английском и эсперанто.) Английский язык распространяется, прежде всего, более образованной и привилегированной элитой неанглоязычных стран, что ведет к расширению неравенства. Английский язык создает условия для доступа к привилегированным позициям в обществе и вносит дополнительные напряженные отношения. Эпоха глобализации одновременно является эпохой модернизации, но ни в коем случае не является эпохой рая. Однако, ее главное достижение – ощущение «единого мира» не может быть отвергнуто. Это ощущение в наибольшей мере выражает стоический идеал «я человек и ничто человеческое мне не чуждо». Глобализация вместе с модернизацией создает особо напряженные отношения между общностями разных религий. Фактор религиозного фундаментализма легко скатывается на позиции религиозного глобального терроризма. Этот и подобные факторы, как, например, антиглобализм или «альтернативная глобализация», другие международные движения (экологическое, женское и т.п.) сами становятся формами глобализации и подтверждают ее необратимость. Другая характеристика глобализации – ослабление национального государства. Глобализация, разрушая традиционные привычки, создает «процесс де-воспитания», в контексте которого предположение Хантингтона о нарастании столкновения цивилизаций не лишено смысла и подтверждается событиями культурно-религиозных антагонизмов последних 20 лет в Югославии, Косово, Афганистане, Багдаде, Иерусалиме и т.п. Но антагонизмы цивилизаций развиваются иначе, чем конфронтации коалиций. Причем, конфликты и расхождения могут смешиваться со сходимостью и гибридизацией. Кризис идентичности отражается в социологии. Сегодня сама социология стала полем битвы, на котором противостоят различные социологические парадигмы, которые своими руками способствуют бессвязности глобализирущегося мира. Миссия МИС состоит в обсуждении нашей эпохи глобализации через различные парадигмы, а не в установлении одной из них. Мы знаем, что мы не в состоянии предложить согласованные рецепты для всех бед, но мы все еще стремимся остаться сообществом диалога, объединенного общими поисками ответов.
Доклад президента МИС выражает слабые и сильные стороны современной социологии, ее ограниченности и противоречивые тенденции.
Из почти полутора тысяч тезисов и выступлений на рабочих сессиях отмечу лишь следующие.
Дженифер Леман (университет Небраска, США) в докладе «Возникновение глобального пролетариата» (Сессия 66: Теория и исследование отчуждения: новые направления) утверждает, что глобализация не является новым явлением. Она возникла одновременно с капитализмом с 1400-х годов, когда европейские элиты начали открывать и эксплуатировать «Новый свет». Глобализация не является глобализацией свободы, демократии и цивилизации, она является глобализацией капитализма. Ее величайшим противником был СССР. Ее глобальными противниками остаются ислам и национальные/локальные движения. Американский капитал вместе с американским правительством и американскими учеными через средства массовой информации стремятся конвертировать традиционные культуры и психологию третьего мира в капиталистическую культуру и психологию и создать пролетариат и потребителей, необходимые ТНК. Автор критикует эту стратегию глобализации капитализма и объявляет себя ее оппозиционером. (Леман выразил крайнюю левую позицию, которая не нашла широкой поддержки, однако, она интересна поиском новых, глобальных, социальных сил и классов, которые перекликаются со сферными классами тетрасоциологии.)
Ада Ахорони (Международный форум за культуру мира, Израиль) в докладе «Женщины, создающие мир без войны и насилия» (Сессия 6: Глобализация и женщины) говорила о том, что женщины дают жизнь, находятся на стороне жизни и ее сохранении. Однако, войны душат женское творчество, убивают женщин и детей больше, чем солдат. За последнее десятилетие было убито 4 миллиона женщин и детей, а от 8 до 10 миллионов искалечены войнами. Человечество, кажется, не воспринимает уроки прошлого. Продолжается более чем сорок войн в различных частях мира, в основе которых лежат этнические и культурные причины. Близорукая вера, что войны могут решить конфликты, является анахронизмом и должна быть отвергнута. Женщины могут быть колоссальной силой в утверждении этой цели, составляя более половины граждан мира. Женщины – это мать мира, а мир – это женщина и мать. Женщины являются лучшим союзником укрепления мира и в этом заключается тесная связь между культурой мира и гендером. Сегодня нет более значительного вызова на планете, чем жизнь в мире, уважении и гармонии со своими соседями. Войны не демократичны, так как большинство людей не хотят их. Женщины вместе с мужчинами, которые не хотят войн, должны добиваться демократического права жить в мире. Предложения о путях его достижения рассматриваются в документе «Еврейские и арабские женщины за мир на Среднем Востоке». (Этому очень смелому и страстному выступлению не хватает понимания нового качества культуры миры и необходимости новых, эффективных средств борьбы женщин за мир, одним из которых является избирательное право детей, как практическое следствие тетрасоциологии.) Ада Ахорони выступала еще на трех сессиях с докладами о культуре мира, которая устанавливает мосты между Западом и Востоком.
Гален Амштутц (Гарвардский университет, США; Киотский университет, Япония) в докладе «Преодоление идеологической дихотомии Запад против Востока в социальном мышлении» (Сессия 118: Японская модернизация и пост-модернизм: от Парсонса к мульти модернизациям, социальной эволюции, ценностям и религии) говорил о том, что современная социология, изобретенная в Западной Европе вместе с другими социальными науками, несет на себе отпечаток европоцентристской частной идеологии ценностей индивидуализма, демократии и человеческих прав. В условиях экономической глобализации, Евро-Американской гегемонии и спорадических антизападных выступлений утверждения об «универсальном» превосходстве западных ценностей (и социальных наук) являются совершенно безжизненными, как, например, сочинения С.Хантингтона и подобных консервативных мыслителей, которые выступают односторонними апологетами Запада. Не-западные общества имеют собственные ресурсы для различных версий индивидуализма, демократии и человеческих прав. Поэтому преодоление дихотомии «Запад против Востока» является интеллектуальной задачей, которая только еще ставится. Автор рассматривает Японскую буддийскую историю, которая дает основание для аргументации независимости не-западных ресурсов, а также о существовании квази-христианских и квази-буддистких ценностей и социальных наук. В этом случае нормальная идеологическая позиция рассмотрения человека и общества может быть расположена где-то между современными стереотипами «Запад» и «Восток». (В этом очень интересном с точки зрения наведения мостов между Востоком и Западом докладе отсутствует представление об общих социальных структурах и классах, которые объединяют все части мира и которые анализируются в тетрасоциологии.)
Ананта Гири (Мадрасский университет, Индия) в докладах: «Критическая социальная теория в современной Индии» (Сессия 25: Критическая социальная теория и азиатские диалоги) и «Ганди и поиск третьего пути» (Сессия 100: Социология третьего пути в Азии) говорил о значении критической социальной теории в Индии, о ее общих и специфических аспектах по сравнению с западной критической теорией, о возможности межцивилизационного диалога Востока и Запада на ее основе. Такой же основой для этого диалога и для поиска третьего пути может быть духовное наследие Махатмы Ганди. Ганди старался идти вне полярности капитала и труда в рамках своей теории и практики попечительства, уважения меньшинств всех видов. Ганди внес большой вклад в создание гуманной экономики, идущей вне социализма и современного варварского капитализма. Он оказал большое влияние на формирование гуманной социологии, которая является планетарной и пост-национальной. (Идеалам гуманной и гармоничной социологии Ганди близки идеи тетрасоциологии.)
Приведенные доклады составляют лишь очень малую толику того колоссального идейного богатства, которое было представлено на конгрессе в Пекине.
Само собой разумеется, что главным стимулом и мотивом нелегкой и непростой поездки в Пекин на конгресс было стремление представить свои собственные тетрасоциологические идеи. Но если в 2002 году я ездил в Австралию на конгресс МСА с целью ознакомления зарубежных коллег с общей теоретической концепцией тетрасоциологии, то на этом конгрессе основной акцент я сделал на одном, с моей точки зрения, важнейшем ее практическом следствии – идее избирательного права детей, исполняемого родителями. (Была еще одна идея – коммунистической многопартийности Китая, однако три сессии, посвященные разным аспектам демократии, которые приняли мои соответствующие абстракты, были закрыты. В однопартийном Китае нельзя говорить о многопартийности, даже коммунистической. Я это понимал и не стал протестовать.) Эта идея была представлена не только в моих восьми докладах на восьми различных сессиях конгресса, но и в специально изданной для него брошюре на английском языке «Избирательное право детей: демократия для 21 века, приоритетное инвестирование человеческого капитала как путь к социальной гармонии» (72 стр.) Кроме того, я привез на конгресс мою прошлогоднюю книгу: «Тетрасоциология: от социологического воображения через мультикультуральный диалог к универсальным ценностям и гармонии» (396 стр.) на трех языках – русском, английском и эсперанто – под одной обложкой, которая также посвящена конгрессу и несет идею международного билингвизма. Каждый участник конгресса приехал на него со своими идеями и достижениями, чтобы «себя показать и других послушать», я приехал со своими. Коротко скажу о своих докладах, содержание которых было существенно обновлено по сравнению с опубликованными абстрактами.
В докладе «Избирательное право детей и женщины» (Сессия 6: Глобализация и женщины) говорится о том, что женщины не только рожают детей, но и несут основной груз забот о них и в семье, и в отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение и т.п.). Поэтому дискриминация и нищета женщин оборачивается дискриминацией и нищетой детей и наоборот. Разорвать этот порочный круг, преодолеть их нищету и дискриминацию может только избирательное право детей, исполняемое родителями, прежде всего матерями. Избирательное право детей сделает родителей (прежде всего матерей) ведущей социальной группой населения, контролирующей большую часть избирательных голосов. Родители, прежде всего матери (и бабушки), получат мощное политическое средство борьбы за улучшение положения своих детей и своего положения. Избирательное право детей обеспечит приоритетное бюджетное финансирование сферы детей, включающей семью, образование, здравоохранение и т.п. Я предполагаю, что каждая нормальная мать с удовольствием поддержит этот приоритет, создаваемый избирательным правом детей. Но я призвал своих коллег-социологов прежде всего исследовать отношение родителей к этому праву, так как в разных странах существуют разные культурные, семейные и политические традиции.
В докладе «Избирательное право детей как основной способ улучшения благосостояния детей» (Сессия 11: Благосостояние детей в эпоху глобализации; и Сессия 92: Семья, брак и дети в изменяющемся мире) говорилось о том, что избирательное право детей, давая дополнительные голоса родителям и обеспечивая им избирательное большинство, создает для них возможность избрать большинство в парламентах всех уровней в интересах детей. Такие парламенты способны будут переориентировать распределение государственного бюджета в интересах детей, обеспечить их приоритетное бюджетное финансирование. Только оно способно будет качественно улучшить благосостояние детей. Поэтому избирательное право детей является наиболее эффективным инструментом для данной цели.
В докладе «Избирательное право детей, плюротеизм и религиозная глобализация» (Сессия 16: Религия и глобализация) рассматривалась взаимосвязь двух гипотез тетрасоциологии – избирательного права детей и плюротеизма (признание единого Бога и всего множества его религиозных образов) – в контексте религиозной глобализации. Подчеркивалось, что во всех религиях признается ценность детей, поэтому избирательное право детей может стать новым и благодатным предметом для консенсуса религий, для межконфессионального диалога и религиозной толерантности в новом веке. Избирательное право детей придает религиям и религиозной глобализации новое гуманистическое измерение, которое имеет огромное значение для будущего не только религий, но и обществ.
В докладе «Избирательное право детей и социальный капитал» (Сессия 51: Адаптации к глобализации: роль социального капитала) говорилось о том, что дети составляют ту часть социального капитала, из которого он происходит и из которого он начинается как социальный ресурс в целом. От его качества зависит качество социального капитала. Избирательное право детей в этом контексте является формой эффективного развития социального капитала, повышения его качества в новом веке и новым способом адаптации обществ к глобализации. Избирательное право детей рассматривалось как первый шаг к новой, сферной, демократии, как новая демократическая культура эпохи глобализации.
В докладе «Избирательное право детей: мост к социальной гармонии как ключевой ценности глобальной эпохи» (Сессия 71: Социальные ценности в глобальную эпоху) говорилось о том, что избирательное право детей модернизирует традиционные ценности свободы, равенства и братства индустриального общества, гуманизирует их, придает им новое гуманистическое качество и ведет к социальной гармонии сферных классов, как ключевой ценности нового, информационного, общества.
В докладе «Тетрасоциология и избирательное право детей как вклад в развитие глобальной социальной теории» (Сессия 82: Вклад национальных наук в развитие мирового социологического знания) говорилось о тетрасоциологии как постплюралистической (т.е. признающей не просто множество, а определенное множество начал и измерений, в данном случае – четырех) социологической теории, которая является концептуальным источником идеи избирательного права детей.
В докладе «Избирательное право детей и глобальная культура» (Сессия 90: Глобальная культура в восточной Азии) говорилось об избирательном праве детей как проявлении глобальных сферных классов населения, исключающих антагонизм и являющихся гармоничными по своей природе; как первом шаге к сферной демократии, сутью которой является равное распределение государственной власти между сферными классами; как новой форме политической психологии. Поэтому избирательное право детей может рассматриваться как элемент глобальной политической, социальной и психологической культуры.
По причине идейной нетрадиционности эти доклады, конечно, встречались по-разному: в каких-то сессиях аплодисментами, в каких-то молча, где-то с вопросами, а где-то без них и т.п. Многие подходили и говорили, что это «свежие» и «интересные» социологические идеи, но требуется время, чтобы вникнуть в них. Естественно, не обошлось и без ярых противников, которые с порога отвергают все новые или не имеющие обширного эмпирического подтверждения идеи. Но это тоже есть форма реакции и небезразличного отношения. Пробуждение интереса и внимания к тетрасоциологическим идеям я считаю главным достижением своих выступлений на конгрессе. Другим не менее важным достижением является колоссальное по масштабам и интенсивности межличностное общение и на сессиях, и во время рекламирования моих книг, и в гостинице, в результате которого я приобрел десятки новых друзей со всего мира, особенно из Китая (особенно из числа китайских студентов-социологов, обслуживавших конгресс и проявивших огромное любопытство к моим книгам), Японии, Индии и других азиатских стран. Тетрасоциология теперь внедрилась и на азиатскую почву. Незабываемы плодотворные беседы с японским профессором Рейманом Бачикой, индийским социологом Анантом Гири и другими. Особенно приятным было знакомство с двумя молодыми китайскими социологами, которые очень неплохо владели русским языком и с которыми мы о многом поговорили.
В заключение несколько слов о своих общих впечатлениях о Пекине и пекинцах. Китай – это особая цивилизация и туда приезжаешь как на другую планету: все необычно. Я понимал это, поэтому приехал за три дня до конгресса, чтобы адаптироваться к новой планете, и оставил три дня после конгресса для более детального знакомства с ней. Первое, что хочется отметить, это трудолюбие и доброжелательность китайцев, чем они очень похожи на русских. Однако есть и глубокие различия. За все время путешествий по Пекину я не встретил ни одного пьяного. Несколько раз я пытался отблагодарить таксистов и официантов небольшими чаевыми, но никто не взял ни копейки. В Китае все было непривычным, прежде всего язык образных, почти пиктографических, иероглифов, совершенно непохожий на наш язык абстрактных знаков. Английский язык китайцы не знают, за редким исключением некоторых молодых людей. Совершенно необычна, но надо сказать, вкусна и полезна, китайская пища, в которой нет хлеба и сладостей, но много специй, овощей, риса, мяса и рыбы, которые часто подаются вместе. Пить китайцы предпочитают свой зеленый чай или простую воду или свое дешевое пиво, очень неплохое на вкус. Спиртные напитки не в почете. Никто на улицах не пьет из бутылок, как у нас. Все услуги и товары в Китае дешевле, чем в России, правда, особым качеством не отличаются. Образ жизни простых пекинцев тоже оригинален. По своей бедности большинство из них продолжает жить в жалких, темных и тесных лачугах, прилепившихся друг к другу, поэтому вся их жизнь, кажется, кроме сна, проходит на улице, где они едят, работают, играют во все игры, воспитывают детей, делают зарядку, торгуют и т.п. Сам Пекин резко разделен на две части. Первая -роскошные центральные улицы, с прекрасной современной многоэтажной (20-40 этажей) архитектурой, сочетающие западный дизайн и местный колорит, заполненные офисами, правительственными учреждениями с постоянной военной охраной, дорогими иностранными магазинами, ресторанами и т.п. Вторая - в квартале от первой, - старый одноэтажный и лачужный Пекин, со множеством мелких магазинчиков и ресторанчиков, где можно быстро, сытно и дешево (за 4-5 юаней, 16-20 рублей) перекусить. Однако, поражает масштаб и интенсивность новой застройки Пекина, качество дорог, многоуровневых транспортных развязок, аэропорта и другой инфраструктуры, которых я не видел ни в Москве, ни в Петербурге. Пекин и Китай живут интенсивной подготовкой к Олимпийским играм 2008 года. Пекинцы разделены на три почти равные части по способам передвижения: пешком, на велосипеде и на автомашинах, причем потоки велосипедистов не уступают автомобильным потокам. Пекин имеет метро, очень похожее на наше, но мало эскалаторов, зато молодежь охотно уступает место старшим. Как и у нас, я часто встречал на улицах Пекина нищих, попрошаек, и бомжей. Но дух пекинцев излучает энергию, жизнелюбие и упорство. Я жил в самой дешевой (6 долларов или 50 юаней в сутки) молодежной гостинице, расположенной в одноэтажном Пекине в 20 минутах ходьбы от Гарден отеля, где проходил конгресс. Каждый день я шел на конгресс и возвращался в свою гостиницу разными маршрутами и мог наблюдать жизнь пекинцев как в старой, так и в новой части города. Погода стояла сухая и жаркая, 30-40 градусов, но были и дождливые дни. Спасением от жары были кондиционеры, которым оборудованы все отели.
Неизгладимое впечатление оставили шедевры китайской культуры. Прежде всего, это Великая китайская стена, которая протянулась почти на 6 тысяч километров с Востока на Запад от Желтого моря. Она строилась с перерывами на протяжении почти двух тысяч лет. Великая стена, а также множество других стен, например, в старом, Запретном городе императоров, создают ощущение, что китайцы все время отгораживались от внешнего, хаотичного, чудовищного и дисгармоничного мира, чтобы внутри своих стен создать мир порядка и гармонии. Может быть, именно поэтому китайцы создали совершенно уникальную цивилизацию. Может быть, именно поэтому они не очень охотно идут на контакты и, может быть, именно поэтому им трудно даются зарубежные связи, хотя это мои, чисто субъективные, ощущения.
Еще более изумителен Запретный город, из которого с 1406 года более пяти веков правили Китаем 20 императоров. Этот город расположен в центре Пекина, отгорожен от него многими ярусами стен и каналов, сейчас сохраняется как мемориальная зона. Внешние стены этого города образуют одну из четырех сторон гигантской центральной площади Пекина – Тяньаньмэнь, другие стороны которой составляют мавзолей Мао, Дворец народных заседаний КНР и Музей китайской истории и революции. Запретный город начинается с ворот и храма Высшей гармонии, за которым идут храмы Полной и Хранящей гармонии, Небесной чистоты и Союза, Спокойствия и Духовного благородства, Конечного принципа и Полного счастья (а также другие). Описать красоту и изящество этих храмов невозможно, их нужно видеть, чтобы ощутить их внутреннюю гармонию, которой насыщен весь ансамбль города. Можно сказать с уверенностью только одно, что последовательность этих храмов выражает иерархию ценностей китайского мировоззрения и менталитета. Особенно приятно и ценно то, что начинается она с гармонии. Поэтому с Востока идет гармония, которая когда-нибудь, в том числе с помощью соответствующей социологии, трансформируется в социальную гармонию мира.
Как и два года назад, сейчас передо мной снова встал вопрос: почему Петербург, культурная столица России не может провести у себя Международный научный форум в области социальных и гуманитарных наук? Может, если этого захотят городская власть и гуманитарии города. Все условия для него Петербург имеет, но нет соответствующей воли и духовного стремления, чему можно поучиться у китайцев. Хочется надеяться, что они скоро появятся.