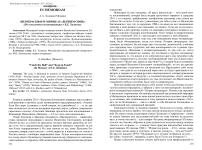"Перебрасываем мячик" и "держим связь" (по осколочным воспоминаниям о В. Е. Хализеве)
Автор: Холиков Алексей Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: In memoriam
Статья в выпуске: 2 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
Мемуарный очерк посвящен памяти Валентина Евгеньевича Хализева (1930-2016) - российского литературоведа, профессора кафедры теории литературы МГУ им. М.В. Ломоносова, автора книг «Драма как явление искусства» (1978), «Драма как род литературы: поэтика, генезис, функционирование» (1986), «Теория литературы» (1999), «Русское академическое литературоведение. История и методология (1900-1960-е годы)» (2015, совместно с А.А. Холиковым и О.В. Никандровой).
В.е. хализев, московский государственный университет им. м.в. ломоносова, теория литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/14914615
IDR: 14914615
Текст научной статьи "Перебрасываем мячик" и "держим связь" (по осколочным воспоминаниям о В. Е. Хализеве)
В начале декабря 2011 г. Валентин Евгеньевич завершил наш телефонный разговор о научных делах неожиданным предупреждением: «Алеша! Если Вы скоро услышите о моей смерти, не удивляйтесь!..» - и, не дав мне опомниться, но все же выдержав короткую паузу, добавил совершенно серьезным голосом: «Светлана Лакшина прочитала мои воспоминания о Владимире Яковлевиче (Лакшине. - Л.Х) и очень ими недовольна».
Очерк Хализева о Лакшине называется «Предводитель» - характеристика, наименее подходящая к самому Валентину Евгеньевичу, который обычно не вел за собой и не предлагал готовых научных рецептов; не создал того, что в академических кругах принято называть «школой» (и уж тем более «направлением»). Но зато многие из тех, кому Валентин Евгеньевич доверял идти вместе с собой, выросли в известных не только в России ученых с необщим выражением лица. Только вненаправленческая (по слову самого Хализева) установка помогла ему уберечься от эпигонов-«школьников» и окружить себя независимо мыслящими коллегами разных поколений.
Некоторые из них оказались «В кругу филологов» - той самой книге воспоминаний, которая была издана крохотным тиражом в середине 2011 г. и к нашему декабрьскому телефонному разговору уже успела разойтись без остатка. Тогда же с удивлением для себя я узнал от Валентина Евгеньевича о том, что до середины 1980-х он вовсе не вел дневниковых записей, а свои ранние годы описывает по памяти. Тогда же он посоветовал не брать с него пример, а сразу, не дожидаясь мемуарного возраста, собирать «осколки» будущих воспоминаний. И вот теперь по разрозненным записям с пометкой «В.ЕХ.» проступают вехи нашего с ним общения.
В зрелые студенческие годы мы, уже повидавшие виды четверокурсники, были обескуражены, когда сам автор «Теории литературы» (настоящего вузовского бестселлера двух последних десятилетий, учебника для «продвинутых» студентов, как нам анонсировали его в рамках пропедевтического «Введения в литературоведение» за три года до этого) предупредил на первой же лекции, что поставлен в трудное положение: пересказывать то, что вошло в его собственную книгу, ему неудобно («Да и просто неприлично!»), поэтому опубликованный текст мы освоим самостоятельно («Читать вас, кажется, выучили?!»), а лекции будут посвящены курсу, который Валентин Евгеньевич «контрабандой», по его же признанию, преподает студентам вот уж несколько лет. Представить себе тогда, в 2004 г, что один из его слушателей через пять лет будет приглашен в соавторы, а лекции по истории русского академического литературоведения XX в., прочитанные «в нагрузку» к основной программе, станут началом нашего совместно подготовленного (и, увы, последнего для Валентина Евгеньевича) учебного пособия, было чем-то невероятным.
Пока же профессор пригласил к себе домой, чтобы мы (бедные студенты) не платили втридорога, а забрали у него остатки авторских экземпляров в четвертый раз изданной «Теории литературы». Помню, как скромная и несколько старомодная обстановка маленькой двухкомнатной квартиры в Матвеевском произвела на меня впечатление полного соответствия образу ее хозяина, уже сложившемуся к тому времени в моем сознании. «Устарел, но не безнадежно», - как-то скажет о себе Валентин Евгеньевич со свойственной ему сдержанной иронией.
Удивление почему-то вызвало пианино. Тогда мне и в голову, забитую книжками, не могло прийти, что наш лектор увлекался не только литературой. Но много позже, редактируя статью Хализева о Скафтымове - одном из самых близких ему исследователей (ибо он тоже «ничего не выдумывал», а «читал честно»), - для словаря «Русские литературоведы XX века», я не мог не отметить образное и даже сущностное сходство между автором текста и его «героем»: «...ученому было присуще жизнелюбие поистине неистощимое. Из письма 1960 г: “Играю (на рояле. - ВХ.\ читаю, пишу [все-таки], жизнь вижу и чувствую, в мыслях уношусь, - чего же более?” Из другого письма (1959): “Музыканю и от музыки оторваться не могу... Без таких “психозов”, наверное, и жить было бы не так интересно”».
Пущее удивление вызвало совсем небольшое (для профессорской-то обстановки) количество книг. Валентин Евгеньевич обожал работать в университетской библиотеке, а дома, под рукой, держал только самые необходимые издания. В 2012 г. (уже тогда мне доводилось слышать от него доверительные признания вроде: «Голова работает нормально, но силы оставляют» - или другое: «Для меня каждый новый день - беспроигрышная лотерея»; а в майский вечер своего 82-летия пророчески произнес: «Мне нужно четыре года, чтобы голова работала. Мне и так уже повезло, что-то удалось сделать, что-то не удалось и не удастся...») Валентин Евгеньевич начал разбирать стеллажи и передавать книги на хранение не только своим прямым ученикам, но и «примкнувшим». Делал он это вдумчиво и кропотливо, учитывая интересы каждого, на протяжении отмеренных четырех лет.
Так моя домашняя библиотека пополнилась редкими литературоведческими томами. А на самом первом из них (за которым я и приехал в Матвеевское) в день сдачи экзамена появился шуточный инскрипт: «Алеше Хо-ликову, специалисту по теории стиха и, кроме того, по творчеству Д.С. Мережковского - с лучшими пожеланиями. В. Хализев. 8/VI-05». Шуточным он был потому, что, долго и, вероятно, занудно отвечая на вопрос по герменевтике, я был неожиданно прерван замученным экзаменатором: «Ну, хватит, достаточно... Вижу, что в сложных проблемах Вы разобрались. А знаете ли Вы, чем стих отличается от прозы?..» Да... «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», - подумалось мне. Сраженный наповал, то ли от растерянности, то ли от неожиданности, я, видимо, так и не дал вразумительного, а главное - четкого ответа на школьный вопрос, которого и в списках не значилось, зато вместе с оценкой получил ироничную надпись на память.
«Шутим - значит, существуем» - вот жизненная формула, которую Валентин Евгеньевич вывел для себя и которой делился далеко не с каждым. Думаю, что на многих (скорее, далеких, чем близких) он производил впечатление исключительно серьезного человека. Но его «серьезность» никогда не была «односторонней» (урок, усвоенный от «заочного учителя» М.М. Бахтина?). В частном общении Валентин Евгеньевич любил повторять слова Г.Н. Поспелова: «Нет ничего страшнее, чем профессорские амбиции». Но при этом подлинно серьезным (и чуждым всякому догматизму) у Хализева было отношение к профессиональному долгу.
На лекции Валентин Евгеньевич всегда приезжал заранее. Не любил отвлекаться на разговоры (после пары - пожалуйста, но не до). Сосредоточенно ходил по нашему девятому этажу или уединенно сидел на кафедре, углубившись в мысли о том, с чем предстоит «выйти на публику» (его выражение). Однажды он поделился своим правилом: «На занятия выхожу из дома за два часа, на заседания кафедры - за полтора, на диссертационные советы - за час». Эта ценностная иерархия находилась в согласии с тем, что Валентин Евгеньевич воспринимал себя прежде всего как «вузовского преподавателя», а уже потом - исследователя (слово «ученый» он недолюбливал), который «смог кое-что сказать в науке». Зачастую скромность (совершенно искренняя, без примеси кокетства) переходила в самоиро- нию. Услышав о том, что в «Вестнике Московского университета» в честь 85-летия Хализева готовится юбилейная подборка статей, Валентин Евгеньевич с улыбкой произнес: «Ну вот, за свою посмертную славу могу быть спокоен» - и тут же вспомнил слова А.П. Чехова из письма старшему брату: «Весьма утешительно, что меня перевели на датский язык. Теперь я спокоен за Данию».
Иронии сопутствовала высочайшая требовательность. В первую очередь - к себе. «Мне иногда неловко, - говорил он, - подписываться “д.ф.н.”, когда вспоминаю о кандидатах, которые сделали больше, чем я (В.Э. Ва-цуро, С.И. Гиндин, С.Г. Бочаров). С другой стороны, утешаю себя тем, что есть доктора, которые тоже значительнее меня (В.Н. Топоров, С.С. Аверинцев)». Неожиданно для всех Валентин Евгеньевич принял волевое решение больше не читать поточные лекции. Причем задолго до того, когда некоторым коллегам это уже необходимо делать. Но он продолжил приезжать в университет и руководить спецсеминаром, пока 18 мая 2012 г, в день своего рождения, не признался по телефону: «Завтра значимый в моей филологической биографии день: я проведу последний в своей жизни семинар». Надо сказать, что последним он был только на факультете. Занятия со студентами и аспирантами («матвеевскими девчатами») продолжились в домашней обстановке. И хотя постоянное общение с учениками отнимало у Валентина Евгеньевича силы, это была та истощающая радость, без которой жизнь преподавателя обессмысливается. Впрочем, и на этом педагогическом горизонте не всегда было безоблачно. Помню, как на одном из кафедральных заседаний, когда бывший его выпускник (употребить слово «ученик» по отношению к тому, с кем учитель давно не здоровался за руку после публичного предательства, вряд ли уместно) устроил очередной скандал в свойственном для себя трактирном стиле, Валентин Евгеньевич не выдержал и вполголоса прошептал: «Тяжелый случай. Моя вина. Я привел его на кафедру».
Соавторское общение с Хализевым было возможным только при подлинном научном равноправии. Началу наших совместных работ всегда предшествовали длительные обсуждения. Это нащупывание общего пути, как правило, происходило по телефону, а уже при встрече составлялся конкретный план будущего текста. Никакого распределения сил по пунктам не было. Одну и ту же часть писали по очереди (насколько хватит возможностей и времени у каждого). Кто-то начинал, после чего передавал эстафетную палочку с обязательным условием - исправить и дополнить сделанное соавтором, прежде чем двигаться дальше. Такой порядок, установленный Валентином Евгеньевичем, назывался у нас «перебрасыванием мячика». Однажды, согласившись с предложенной правкой, я обронил: «Вас понял!» - а в ответ услышал: «Это делает мне честь» (с легкой усмешкой, разумеется). В процессе работы Валентин Евгеньевич любил и умел создавать настроение «сообщительной веселости» (по П.А. Вяземскому), мог не по-стариковски, а совершенно по-мальчишески объявить: «Алеша, очень хочется похулиганить и вставить фразу (далее опускаю. -А.Х.у.. Хорошо, что статья в соавторстве: если начнут критиковать и при- дираться - будем валить друг на друга!» Высшей оценкой были слова, услышанные перед отправкой одного из совместно подготовленных текстов в печать: «Испытываю удовлетворение от проделанной работы».
Валентин Евгеньевич искренне надеялся, что наше общее дело будет продолжено достойно и успешно. «Если бы была возможность, - как-то признался он, - я бы собрал свои старые статьи и переписал для нового сборника». Не успел... Наш прощальный телефонный разговор состоялся в день презентации того самого учебного пособия, совместная работа над которым продолжалась последние годы. В декабре 2015-го. Тогда, как обычно, в трубке сперва глухо раздалось ожидаемое «Слушаю...», а в конце - традиционное «Держим связь». Но между ними... в ответ на некстати заданный мной вопрос о самочувствии прозвучало горестное: «Голос - единственное, что у меня осталось в порядке». А реакцией на еще более неуместное пожелание оптимизма стала фраза, опрокинутая в прожитые дни: «Не лечите меня оптимизмом! Я вырос в атмосфере казенного оптимизма и слова этого не люблю, предпочитаю вместо него говорить о здравом смысле» - и вдруг, впервые за все время нашего общения, захотел прочитать стихи. То были строки Булата Окуджавы: «Прожить лета б дотла, / А там пускай ведут / За все твои дела / На самый страшный суд». Жизнь кончилась, но связь не оборвалась...
Alexey Kholikov - Doctor of Philology, docent at the Department of Theory of Literature, Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University (MSU).
Research interests: history of Russian literature (Silver age), theory of literature, textual criticism.