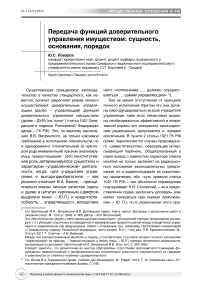Передача функций доверительного управления имуществом: сущность, основания, порядок
Автор: Поваров Ю.С.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Частно-правовые (цивилистические) науки - гражданское право
Статья в выпуске: 5 (272), 2024 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует природу и юридические механизмы передачи доверительного управления имуществом. Обосновывает, в частности, правомерность санкционирования учредителем управления возможности делегирования правомочий без указания конкретной фигуры поверенного, некорректность квалификации отраженного в соглашении уполномочия как одностороннего акта учредителя управления. Подчеркивает, что применительно к экстраординарной ситуации передачи управления в силу вынужденных обстоятельств актуальна возможность установления в договоре запрета на подобное делегирование правомочий.
Передача доверительного управления имуществом, ответственность управляющего за действия поверенного, отношения в рамках заместительства, специфика отношений между управляющим и поверенным, чрезвычайное передоверие
Короткий адрес: https://sciup.org/170207847
IDR: 170207847
Текст научной статьи Передача функций доверительного управления имуществом: сущность, основания, порядок
Существующее гражданское законодательство в качестве стандартного , как известно, логично закрепляет режим личного осуществления доверительным управляющим (далее – управляющий) функций доверительного управления имуществом (далее – ДУИ) (см. пункт 1 статьи 1021 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее – ГК РФ). Это, по верному заключению В.В. Витрянского, не только ключевое требование к исполнению обязательств, но и одновременно отличительный (в некотором роде имманентный) признак анализируемых правоотношений 1 (его конститутивная роль детерминируется существом и характером «управленческой» деятельности , когда «для учредителя управления и выгодоприобретателя, – как резонно отмечает В.А. Белов, – принципиально важны личные качества (здесь и далее в цитатах курсивным шрифтом выделено мной. – Ю.П. ) и кредитоспособность … управляющего», вследствие
чего «исполнение … должно осуществляться … самим управляющим» 2).
Тем не менее отступления от принципа личного исполнения (притом что они должны либо фундироваться на воле учредителя управления, либо быть объективно вызваны необходимостью эффективной и оперативной охраны его интересов) законодателем рационально допускаются в порядке исключения. В пункте 2 статьи 1021 ГК РФ прямо перечисляются случаи правомерного «заместительства», образующие исчерпывающий перечень. Общепризнанный в науке вывод о замкнутом характере списка изъятий не только вытекает из редакционного изложения законодательных предписаний, но и корреспондирует их смысловому назначению, ибо «суть правила статьи 1021 ГК РФ, – как абсолютно справедливо подчеркивает К.И. Скловский, – не в предоставлении права заключать договоры (как может показаться при первом приближении. – Ю. П.), но в ограничении этого пра- ва» 3. При этом надлежащее соблюдение изучаемых рестриктивных положений значимо, к примеру, в плане проверки правомочности подписания искового заявления не управляющим, а иным лицом. Показательно, что по одному из дел суд, установив факты выдачи управляющим доверенности на имя «внешнего» субъекта, а учредителем управления – соответствующего письменного согласия и, ориентируясь на нормы пункта 2 статьи 1021 ГК РФ, не усмотрел оснований для оставления иска без рассмотрения 4.
В пункте 2 статьи 1021 ГК РФ указывается, что доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия , необходимые для управления имуществом. То есть речь идет о подтверждении учредителем управления возможности «заместительства» , а вовсе не о конкретных действиях, сопряженных с управлением имуществом сторонним лицом (включая сделки с объектами доверительными управления).
В этом контексте в целом адекватно и неслучайно принятое в литературе утверждение о передаче управляющим функций управления имуществом иному лицу 5 (аналогичная терминология использовалась и разработчиками проекта Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 6). В то же время в логике означенной трактовки «заместительства» законодатель не ограничивает набор совершаемых новым «порученцем» действий. Вместе с тем пра- вомерность установления рестрикций на сей счет в договоре или акте согласования, конечно, не может быть поставлена под сомнение. «Заместительство» предполагает совершение необходимых для управления имуществом действий (юридических и фактических), причем от имени управляющего (а не от своего имени либо от лица учредителя управления и (или) выгодоприобретателя).
Специфика фигуры управляющего как субъекта, действующего хотя и в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя), но от собственного имени, обусловливает одно из основных отличий заместительства от передоверия , в результате которого субъект получает полномочия совершать действия от имени представляемого , а не от имени передавшего полномочия представителя (при этом юридические «форматы» поведения первоначального и последующего «доверенных» субъектов по отношению к лицу, в чьих интересах они действуют, совпадают (при передоверии – они оба выступают от имени и в интересах представляемого, при заместительстве – от имени управляющего, но в интересах выгодоприобретателя).
Как следствие, коренным образом разнятся правила об ответственности за поведение «помощника» – управляющий отвечает за действия избранного им поверенного (невзирая на санкционирование заместительства учредителем управления!), как за свои собственные (пункт 2 статьи 1021 ГК РФ) 7, в то время как на первоначального представителя подобная ответ- ственность возлагается лишь при неисполнении соответствующих информационных обязанностей (по общему же правилу именно последующий представитель, действуя «напрямую» от лица представляемого, несет перед последним ответственность) (см. пункт 2 статьи 187 ГК РФ). В этом измерении любопытна и несколько «провокационна» оговорка в пункте 2 статьи 1021 ГК РФ об ответственности управляющего за действия избранного им поверенного. Полагаю, ее надлежит толковать все-таки расширительно.. С учетом такого толкования, в частности, фиксация имени (наименования) возможного поверенного в договоре ДУИ сама по себе не способна устранить ответственность управляющего (противоположные по смыслу правила, указанные в пункте 3 статьи 976 ГК РФ неуместны для использования по аналогии закона по мотиву действия заместителя поверенного, как и самого поверенного, от имени доверителя).
Таким образом, несмотря на очевидную близость, передача функций ДУИ не является разновидностью передоверия (по крайне мере, сквозь призму положений статьи 187 ГК РФ) 8. Симптоматично, что применительно к отношениям, порождаемым договором поручения, законодатель, разрешая передачу поверенным исполнение поручения другому лицу – заместителю (который, как и сам поверенный, будет действовать от имени доверителя), определяет случаи и условия названной передачи посредством отсылки к предписаниям статьи 187 ГК РФ (см. статью 976 ГК РФ). Передача же функций ДУИ, напротив, подвергается непосредственному и довольно детальному нормированию (хотя и очень сходному с регламентацией передоверия). Мало того, конструкту передоверия чужд разрешительный порядок «вторичного» делегирования полномочий (ведь последующий представитель будет действовать от имени представляемого и нести самостоятельную ответственность, в силу чего уполномочивание и при передоверии должно «вдохновляться» непосредственно представляемым). Передача же управляющим функций ДУИ, наоборот, может среди прочего базироваться на выражении воли управляющим и получении соответствующего согласия от учредителя управления (здесь задействование механизма согласования не выглядит избыточным и негармоничным).
«Внутренние» отношения в ра мках «заместительства» складываются между управляющим (который, надо подчеркнуть, по-прежнему остается стороной договора ДУИ, ответственной за надлежащее управление и не утрачивающей по умолчанию «управленческих» правомочий 9) и неким «другим лицом» .
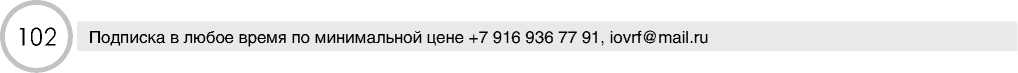
Аспект правовой природы указанных связей законодатель зримо не раскрывает, давая лишь некоторые намеки: «заместитель» именуется поверенным, действующим от имени управляющего, в развитие чего последний, повторю, отвечает за действия поверенного как за собственные. Приведенные обстоятельства нацеливают на «расшифровку» исследуемых отношений в качестве договорных отношений поручения, а потому они … должны оформляться, – резюмирует Е.А. Суханов, – договором поручения (доверенностью), а не субдоговором, обычно оформляющим возложение исполнения договорного обязательства на третье лицо» 10. Надо отметить, что изложенная интерпретация, небезосновательно получившая серьезную поддержку в научном мире 11 и позволяющая комплексно разрешить целый ряд актуальных вопросов (скажем, относительно контента обязанностей контрагентов, возможности отмены поручения в любое время), все-таки не в полной мере отражает специфику отношений, возникающих между управляющим и поверенным 12 (прежде всего в ракурсе совершения поверенным не только юридических, но и фактических действий, а равно должного преследования им интересов выгодоприобретателя по договору ДУИ 13). Более того, отдельные законоположения, упорядочивающие отношения поручения, не совсем учитывают существо ДУИ. Так, едва ли адекватно и оправданно при передаче функций ДУИ «безоглядное» применение правил статьи 976 ГК РФ о передоверии исполнения поручения (ког- да поверенному может быть «назначен» свой заместитель), они слабо коррелируют с нормами статьи 1021 ГК РФ, охраняющими учредителя управления (но мнение которого – в контексте буквального выполнения требований статьи 976 ГК РФ – юридически безразлично).
Пробельность имеется в отношении обязательности (необязательности) персонификации поверенного при санкционировании «заместительства» учредителем управления (к примеру достаточно ли простое упоминание в договоре о праве управляющего привлекать третье лицо по своему выбору?). Имея в виду отсутствие каких-либо явных ограничительных указаний по этому поводу (сверх того, в пункте 2 статьи 1021 ГК РФ упоминается об избрании управляющим поверенного), несение управляющим ответственности за поведение поверенного, а также допущение законом даже не согласованного с учредителем управления «заместительства» (пускай и в экстраординарном порядке), вывод о не-пременности указания в договоре или отдельном акте-согласии конкретной фигуры поверенного кажется уязвимым (другое дело, что договор, естественно, может содержать специальные рестриктивные положения – устанавливать некие требования к поверенному, вводить механизм уведомления об избранном поверенном, предусматривать режим согласования кандидатуры и т. д.). Примечательно, что в рамках института передоверия исполнения поручения (во многом походящего на изучаемую конструкцию) законодатель особо закре- пляет вариант, при котором заместитель, не поименованный в договоре поручения, выбирается исключительно самим поверенным (см. пункт 3 статьи 976 ГК РФ).
Разбираемое привлечение к ДУИ третьих лиц допускается, как буквально вытекает из пункта 2 статьи 1021 ГК РФ, лишь в трех случаях :
-
1) при закреплении за управляющим соответствующего уполномочия в договоре;
-
2) при получении согласия учредителя управления;
-
3) в силу наличия весомых обстоятельств.
Приведенная легальная рубрикация исключений вполне «жизнеспособна» (впрочем, это не отменяет доктринальную и практическую ценность классификаций с учетом других факторов. Так, полезной и адекватной видится проводимая С.П. Гришаевым двух членная градация случаев правомерного делегирования полномочий с опорой на волевой критерий: «по … воле учредителя (когда тот оговорил … обстоятельство в договоре либо впоследствии дал … согласие)» и когда к этому «вынуждают обстоятельства» 14).
Во-первых, управляющий может быть уполномочен на «трансферт» ДУИ договором (изначально либо при внесении в него изменений и дополнений). Допустимость подобной децентрализованной регламентации, к слову, придает правилу о личном осуществлении ДУИ диспозитивный характер, но все-таки в усеченном виде (законодатель не пошел по пути бесспорного признания диспозитивности по образцу, например, статьи 780 ГК РФ, где недвусмысленно и без каких-либо оговорок закрепляется правомерность отказа от модели личного оказания исполнителем услуг либо ее корректировки).
Интересным и непраздным (не только в теоретическом, но и в прикладном аспекте) оказывается момент идентификации зафиксированного в договоре уполномочия в качестве одностороннего акта учредителя управления (о чем, кстати, косвенно может свидетельствовать использование глагола «уполномочен», памятуя о достаточно традиционном восприятии уполномочия как права, полученного по воле другого лица) или, напротив, условия договора ДУИ (то есть содержательного компонента двухсторонней сделки). Затронутая проблематика имеет прямой выход и на многогранный вопрос о сопряжении норм пункта 2 статьи 1021 ГК РФ с институтом согласия на совершение сделки (статья 157.1 ГК РФ), тем более, что немало ученых оценивают договорное уполномочие именно в качестве предварительного (заранее данного) согласия . Так, Ю.Н. Андреев отмечает, что предусмотренные в пункте 2 статьи 1021 ГК РФ случаи «заместительства» «требуют предварительного или последующего согласия собственника имущества (учредителя управления)» 15. В.В. Долинская на примере положений пункта 2 статьи 1021 ГК РФ утверждает, что « согласие может быть выражено как путем указания на такую возможность при заключении первоначального договора , так и отдельным актом»16. А.А. Ильюшенко полагает, что « полномочие на передачу, содержащееся в договоре ,.. можно считать … согласием учредителя управления» 17.
Думается, что по умолчанию речь должна идти о договорном условии (а не об одностороннем разрешительном волеизъявлении учредителя управления) 18, в свете чего, помимо прочего, сформировавшаяся в судебной практике позиция о принципиальной допустимости отзыва согласия на совершение сделки по инициативе субъекта дачи такого согласия (см. пункт 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – ППВС № 25) здесь не должна работать («нейтрализация» условия о согласии может происходить не иначе как по общим и специальным правилам об изменении договора).
С точки зрения традиционной для отечественной цивилистики трехзвенной систематики условий договора (существенные, обычные и случайные) обсуждаемое указание договора надлежит квалифицировать, как правильно подмечает Л.Ю. Михеева, в качестве случайного условия 19 (не считая, разумеется, ситуации, когда она из сторон настаивала на обязательном согласовании этого момента на стадии заключения соглашения).
Во-вторых, правомерность передачи ДУИ может опосредоваться получением согласия от учредителя управления. Такое согласие как раз и является согласием третьего лица на совершение сделки в смысле предписаний статьи 157.1 ГК РФ (в упоминавшемся ранее проекте Концепции совершенствования общих положений ГК РФ, кстати, передача управляющим функций управления другому лицу на основании статьи 1021 ГК РФ четко отнесена к случаям, когда совершение сделки требует согласия). Анализируемое согласие, как гласит закон, должно быть письменным. Хотя это положение не сопровождается ремаркой о недействительности согласия как сделки при игнорировании требования о письменной форме (причем с учетом юридико-фактической автономности согласия норму пункта 3 статьи 1017 ГК РФ о недействительности договора ДУИ, не облеченного в надлежащую, как минимум, письменную форму, даже в порядке аналогии закона применять, как представляется, нельзя), это все же здравое усиление формальных требований 20 (напомню, что частотным для текущего законодательства является молчание по поводу формы согласия третьего лица на совершение сделки, по этой причине суды исходят из правомерности по общему правилу выражения акта санкционирования любым способом (см. пункт 55 ППВС № 25). Впрочем, порой судебные инстанции проявляют лояльность, признавая законным одобрение учредителем управления совершенной сделки и посредством конклюдентных действий (так, например, принятие истцом – учредителем управления оплаты по заключенному с нарушением предписаний статьи 1021 ГК РФ договору аренды было оценено как последующее одобрение сделки, исключающей признание ее недействительной на основании статьи 174 ГК РФ 21).
Наконец, легитимной будет передача ДУИ, когда управляющий был вынужден к этому силой обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имел при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок. Сообразно сказанному должна иметь место совокупность трех моментов :
-
1) наличие неких обстоятельств, как правило, неординарного и непредвидимого
характера (болезнь управляющего и т. п.), препятствующих личному исполнению управляющим возложенных на него обязательств и вынуждающих его обратиться к «услугам» третьего лица ( объективная обусловленность );
-
2) «заместительство» призвано обеспечить интересы учредителя управления или выгодоприобретателя (специальное целеполагание );
-
3) отсутствие у управляющего возможности своевременно (в разумный срок) получить указания учредителя управления, что свидетельствует о неожиданности наступления обстоятельств ( чрезвычайность ситуации) 22.
В этом случае законодатель фиксирует затруднительность получения именно указаний , а не согласия. Очевидно, что приведенные понятия не могут быть отождествлены (указания гипотетически могут касаться порядка осуществления тех или иных действий по управлению, необходимости их приостановления или прекращения и т. п.). Однако при любом раскладе наличие возможности получения согласия ( несогласия ) в разумный срок должно служить барьером для использования третьей опции. Думается, в этом плане было бы более взвешенным (с точки зрения последовательного проведения идеи обязательного санкционирования «заместительства») и в рассматриваемой ситуации «зеркальным» говорить о невозможности получения именно согласия (либо, как вариант, согласия или иных указаний) учредителя управления.
Нормы, относящиеся к институту передоверия, также предусматривают вариант «чрезвычайного» делегирования полномочий. Между тем в отличие от требований, указанных в пункте 2 статьи 1021 ГК РФ, в пункте 1 статьи 187 ГК РФ:
-
1) заявляется об охране , а не об обеспечении интересов (что, конечно, не стоит считать различием принципиального свойства), причем исключительно представляемого ;
-
2) отсутствует ограничительная оговорка относительно невозможности получить указания (вместо этого вводится механизм обязательного извещения представляемого под угрозой отвечать за чужие действия, как за собственные);
-
3) провозглашается правомерность установления в доверенности запрета на «чрезвычайное» передоверие.
Думается, что последняя клаузула (появившаяся в ГК РФ в 2013 году в ходе масштабной модернизации отечественного гражданского законодательства) актуальна и для передачи ДУИ . Более того, невзирая на отсутствие соответствующих указаний в статье 1021 ГК РФ, в логике принципа свободы договора она может быть использована и при заключении соглашения о ДУИ. Договорное воспрещение «чрезвычайной» передачи функций ДУИ, как представляется, не вступает в противоречие со смыслом правил пункта 2 статьи 1021 ГК РФ, призванных сузить «окно возможностей» для отхода от рационального концепта личного исполнения обязательств управляющим.
Разбираемый охранительный механизм непосредственно направлен на обеспечение интересов учредителя управления (в конечном счете – выгодоприобретателя, то есть опосредованно), что в полной мере согласуется с его статусными характеристиками как собственника переданного в управление имущества (кроме случаев так называемого «некоммерческого» ДУИ, реализуемого при наличии специальных оснований, предусмотренных законом (см. статьи 1014 и 1026 ГК РФ), и потенциального субъекта ответственности по обязательствам, возникшим в связи с ДУИ (см. пункт 3 статьи 1022 ГК РФ). Отсюда санкционирование «заместительства» проводится именно им, что ясно следует из текста пункта 2 статьи 1021 ГК РФ (применительно к первому (договорному) «сценарию» именно учредитель управления является стороной соглашения, для второго случая учредитель управления объявляется единственным субъектом дачи согласия, легитимность третьего варианта обусловливается невозможностью получения указаний как раз от учредителя управления). Мнение выгодоприобретателя, не являющегося одновременно учредителем управления, насчет целесообразности передачи ДУИ другому лицу, как следует из комментируемых законоположений, обязательному учету не подлежит (но, наверное, договором по желанию его сторон может быть установлено и обратное). При этом резоны для буквального применения пункта 2 статьи 430 ГК РФ (о нелегитимности расторжения или изменения договора, заключенного в пользу третьего лица, без его согласия с момента выражения заявления о «присоединении» к договору) также отсутствуют (из-за наличия в статье 1021 ГК РФ «вытеснительного» специального регулирования 23, а равно ввиду ущербности трактовки согласования «заместительства» как способа изменения и (тем более) расторжения договора ДУИ). Имущественные интересы бенефициара обеспечиваются с помощью иного инструментария гарантийной направленности (отчетность управляющего (см. пункт 4 статьи 1020 ГК РФ), ответственность управляющего (см. статью 1022 ГК РФ) и т. п.). Описанный подход акцентуации роли учредителя управления (но не выгодоприобретателя) при решении вопроса о «делегировании» функций ДУИ видится вполне сбалансированным и догматически корректным.
Статут, 2002. 1055 с.
***

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Рады представить Вам новый сборник «СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ-2024. ОПЕРАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ» под редакцией Л.А. Лейфера.
В новых реалиях рынка недвижимости оценщик зачастую сталкивается с нехваткой необходимой информации для расчета рыночной стоимости недвижимого имущества в рамках доходного подхода.
Как показали отзывы, замечания и комментарии пользователей Справочников значительные трудности связаны с определением отдельных составляющих расходов, которые в соответствии с условиями договоров по-разному распределяются между собственником и арендатором недвижимого объекта оценки. Данные показатели необходимы оценщикам для оценки коммерческой недвижимости в рамках доходного подхода при расчете потенциального валового дохода (ПВД) и чистого операционного дохода (ЧОД), отвечающих типовым рыночным условиям.
В представленном издании «Справочник оценщика недвижимости-2024. Операционные расходы при эксплуатации коммерческой недвижимости» приведены среднерыночные значения долей, приходящихся на отдельные составляющие операционных расходов, характерные для типовых условий эксплуатации коммерческой недвижимости.
Заказать Справочник можно на сайте в разделе «Заказать».
Список литературы Передача функций доверительного управления имуществом: сущность, основания, порядок
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2002. 1055 с.
- Бандурина Н. В., Бибиков А. И., Вавилин Е. В. [и др.]. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй. В 3 т. / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. Т. 3. 574 с.
- Белов В. А. Гражданское право: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. Т. IV. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы. 1085 с.
- Скловский К. И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. 288 с.
- Колесникова С. Г. Некоторые вопросы при рассмотрении споров, связанных с доверительным управлением долями (акциями) хозяйственных обществ // Арбитражные споры. 2014. № 1. С. 36-65.
- Дихтяр А. И. Согласие на совершение сделки с земельным участком как условие ее действительности // Юрист. 201 0. № 1. С. 18-22.
- Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 6-101.
- Ильюшенко А. А. Договор доверительного управления имуществом подопечного / под ред. Ю. В. Трунцевского. М.: Юрист, 2007. 192 с.
- Константинов Г. Л. О некоторых проблемных аспектах правового статуса сторон договора доверительного управления на рынке ценных бумаг в России // Банковское право. 2009. № 5. С. 27-30.
- Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. 636 с.
- Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. М.: Статут, 2003. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс.
- Крашенинников Е. А., Байгушева Ю. В. Понятие и действие передоверия // Lex Rus-sica. 2014. № 3. С. 324-330.
- 23 В пункте 2 статьи 1021 ГК РФ упоминается о выгодоприобретателе (что, кстати, упрощает толкование нормативных указаний в интересующем нас срезе), но лишь в приложении к «чрезвычайной» передаче функций ДУИ и сугубо для раскрытия подоплеки такого «заместительства».
- Суханов Е. А. Договор доверительного управления имуществом // Вестник ВАС РФ. 2000. № 1. С. 81-94.
- Витрянский В. В., Ем В. С., Козлова Н. В. [и др.]. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. 2-е изд., стереотип. / отв. ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс.
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / под ред. С. П. Гришаева, А. М. Эрделевского. Подготовлен для справочной правовой системы «Консультант-Плюс», 2007.
- Гоишаев С. П. Доверительное управление имуществом. Материал подготовлен для справочной правовой системы «Кон-сультантПлюс», 2010.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс.
- Андреев Ю. Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. 400 с. и^: https://www. iprbookshop.ru/9257.html
- Долинская В. В. Согласие на совершение сделки: проблемы законодательства и доктрины // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 12. С. 3-12.
- О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс.
- Михеева Л. Ю. Доверительное управление имуществом. Комментарий законодательства. Материал подготовлен для справочной правовой системы «КонсультантПлюс», 2001.
- Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2009 года № 4379/09 по делу № А28-3145/2008-115/17. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс.