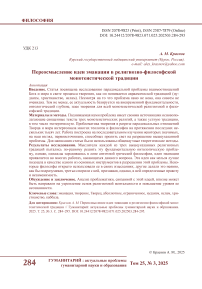Переосмысление идеи эманации в религиозно-философской монотеистической традиции
Автор: Краснов А.М.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена исследованию парадоксальной проблемы взаимоотношений Бога и мира в свете процесса творения, как он понимается авраамической традицией (иудаизм, христианство, ислам). Несмотря на то что проблема явно не нова, она совсем не очевидна. Тем не менее, ее актуальность базируется на вневременной фундаментальности, онтологической глубине, идее творения для всей монотеистической религиозной и философской традиции. Материалы и методы. Поднимаемая нами проблема имеет своими источниками основополагающие священные тексты трех монотеистических религий, а также устную традицию, в том числе эзотерическую. Проблематика творения в разрезе парадоксальных отношений Творца и мира интересовала многих теологов и философов на протяжении последних нескольких тысяч лет. Работа построена на последовательном изучении некоторых значимых, на наш взгляд, первоисточников, способных пролить свет на разрешение вышеуказанной проблемы. Для написания статьи были использованы общенаучные теоретические методы. Результаты исследования. Мыслители каждой из трех вышеуказанных религиозных традиций пытались по-разному решить эту фундаментальную онтологическую проблему, однако, однажды зародившись в лоне античной греческой философии, идея эманации проявляется во многих работах, касающихся данного вопроса. Эта идея как нельзя лучше подошла в качестве одного из основных инструментов в разрешении этой проблемы. Некоторые философы открыто использовали ее в своих изысканиях, другие делали это неявно, как бы подразумевая, третьи спорили с ней, признавая, однако, в ней определенные правоту и незаменимость. Обсуждение и заключение. Анализ проблематики, связанной с этой идеей, вполне может быть направлен на укрепление основ религиозной ментальности и повышение уровня ее осознанности.
Эманация, творение, Творец, абсолютное, ограниченное, иудаизм, ислам, христианство, каббала
Короткий адрес: https://sciup.org/147252165
IDR: 147252165 | УДК: 213 | DOI: 10.24412/2078-9823.071.025.202503.284-295
Текст научной статьи Переосмысление идеи эманации в религиозно-философской монотеистической традиции
Во всех авраамических религиозных системах, а также традициях, базирующихся на них, Всевышний, Творец мыслится как Абсолют во всех смыслах этого слова. Он не имеет отношения к чему-либо материальному и не имеет никаких ограничений, ни начала, ни конца. Всевышнему не могут быть присущи никакие пространственно-временные характеристики. Однако, вместе с тем, Он является Творцом. Таким образом, постулируется бытие мира, в том числе материального, в том числе моего собственного, и я могу вслед за Р. Декартом воскликнуть: «Я мыслю, следовательно, существую!» Вот тут-то и появляется проблема: как может вместе с Абсолютно неограниченным бытием сосуществовать ограниченное? Как вообще при наличии неограниченного может существовать что-либо, ведь если есть Неограниченное, то для чего-либо еще просто нет «места»? Таким образом, мы упираемся в логический парадокс, который достаточно остроумно был в свое время сформулирован в виде вопроса: «Может ли Бог создать камень, который Он не сможет поднять»? В данной статье мы как раз и попытаемся разобраться в том, кто и как в истории религиозно-философской мысли попытался помочь поднять этот «камень» и что из этого получилось.
Материалы и методы
Эта проблема имеет несколько вариантов решения:
-
1. Всё есть Абсолют, т. е. ничего другого не существует. Следовательно, мое существование – это всего лишь иллюзия, заблуждение, грезы самого Абсолюта. Эта идея близка буддийской традиции, но абсолютно не приемлема для авраамических религий.
-
2. Единственной абсолютной реальностью обладает само «творение», а Абсолют – это иллюзия. Иными словами, мир реально существует, включая человека, а никакого Абсолюта нет, Он был просто выдуман. Как мы понимаем, это атеистическая точка зрения, которая отрицает понятие творения. Естественно, такая позиция совершенно невозможна для авраамической религиозной традиции.
-
3. Такая система взаимоотношений Творца и творения, при которой Творец является источником творения, но при этом творение не отделено полностью от своего Творца. Иными словами, творение одновременно должно обладать самостоятельным существованием и находиться в полной зависимости от Творца, как бы пребывать в Нем. Данный вариант является единственным путем разрешения проблемы, который может быть приемлемым для авраамиче-ской традиции.
Результаты исследования
Вероятно, первой среди авраамических религий с этой проблемой столкнулся иудаизм, причем не официальная, открытая доктрина, изложенная в Хумаше или Талмуде, а скрытая, мистическая часть Устной Торы – каббала. И это понятно: обозначенная проблема имеет явный философский характер и не лежит на поверхности, а каббала – это не только мистика, но и глубокое философское осмысление традиционного еврейского мировоззрения. Еврейская традиция берет на вооружение уже существующую к тому моменту и достаточно известную идею эманации и очень удачно использует ее для решения вышеуказанной проблемы. Известный исследователь еврейской мистики Гершом Шолем усматривает использование идеи эманации уже в «Сефер Йецира» («Книге Творения»), датируемой III–VI вв. н. э., хотя прямым текстом это не выражено [9, с. 114].
Прямо об эманации пишет рабби Хаим бен Йосеф Виталь в своей книге «Эц Хаим» («Древо жизни»), по преданию записывающий ее со слов своего учителя рабби Ицхака бен Шломо Ашкенази Лурии (Ариза-ля). В одном из пассажей автор кратко излагает принципиальную схему творения на языке каббалы. Всевышний здесь называется «простым светом Эйн Соф», и Он является единственной реальностью. Именно в этой реальности возникает желание эма-нировать творение: «Когда возникло Его желание эманировать эманируемых, Он ограничил Себя в центральной точке этого света, в средней точке, в его середине, и там “сжал” Себя к окружению, к сторонам, и осталось пустое пространство между ними. И это было первым цимцумом (ограничением, сжатием) Высшего Эманатора» [2, с. 125]. Аризаль применяет интересное сравнение для этого «сжатия»: волны, которые образуются от брошенного в воду камня, расходящиеся от центра к сторонам вокруг. Все существующее творение, таким образом, «располагается» в той реальности, которая образуется вокруг такого центра.
Мы видим, что в этом тексте Творец назван Эманатором, а творение – эмани-руемые, а для того, чтобы описать процесс творения, вводится оригинальная идея цимцума. Если мы попытаемся представить себе эту картину, то получится, что все творение (как материальное, так и нематериальное) существует в самом «центре», окруженное со всех «сторон» Безграничным Абсолютом, своим Творцом, и как бы пронизывается, подпитывается энергиями Всевышнего или, на языке каббалы, «Его светом». Обратим внимание на то, что, когда Аризаль пишет о простом свете Эйн Соф, он имеет в виду не сущность Творца, а именно некий свет, исходящий из Его сущности. Творение же существует «как бы внутри этого света, окруженный и пронизанный энергиями Всевышнего, а цимцум является границей между Абсолютным и ограниченным [2, с. 126].
Итак, мы видим, что античная идея эманации как описание процесса творения мира в иудаизме была серьезным образом переработана и дополнена.
Во-первых, появляется идея цимцума, которая позволяет объяснить существование возможности бытия чего-то кроме Абсолюта, как бы освобождает «место» для творения. Г. Шолем раскрывает понятие цимцума следующим образом: «Исходное значение слова цимцум – “сосредоточение” или “сжатие”, но на каббалистическом языке этот термин означает скорее “удаление” или “отход”» [9, с. 325]. Иными словами, это означает, что материальная реальность, как и все вообще творение, оказалось возможным в результате процесса сокрытия Бога, «ухода» Творца из этого мира, освободив место для твар-ной реальности. Однако надо понимать, что это не реальный уход из мира, а всего лишь иллюзия отсутствия; на самом деле этот мир не только не покинут Богом, а наоборот, внутри света Всевышнего. Иллюзия же эта необходима для того, чтобы человек мог существовать и развиваться самостоятельно, чтобы он имел свободу выбора и мог бы нести ответственность за свои поступки.
Во-вторых, творение не является чем-то совершенно отдельным от Творца, поскольку «окружено и пронизано» энергиями Абсолюта и, таким образом, неотделимо от Него.
В-третьих, постулируется и особо подчеркивается непреложный принцип эманации, а именно процесс постепенного развертывания, раскрытия, того, что существует изначально: «В языке Каббалы мы определяем, что одна реальность постепенно эманирует, развивается из другой реальности, только если выполняются вышеназванные условия: все, что есть в результате, было и в основании, и в результате нет ничего, чего не было бы в основании» [2, с. 31]. Г. Шолем усматривает этот принцип даже в каббалистической трактовке первого стиха Торы: Берешит бара Элоким («В начале сотворил Бог»), определяя слово бара как эманацию или развертывание [9, с. 279].
Неотъемлемой частью этого процесса творения-эманации являются сфирот. Рабби Моше Хаим Луцатто (Рамхаль) в своей книге «Питхей хохма ведаат» раскрывает перед нами замысел Всевышнего, заключающийся в том, чтобы дать благо творению, но не даром. Иначе говоря, Всевышний дает возможность заработать, заслужить благо, чтобы избежать стыда, который неизбежно сопровождает любую милостыню. Центральную роль в этом замысле играют сфирот, которые являются инструментом такой работы: «Вот, что известно нам из намерения Эманатора в этом: желая воздать добро, Эманатор захотел создать существа, которые получали бы Его добро. И чтобы это добро было совершенным, необходимо, чтобы они зарабатывали его, а не получали как милостыню. Ибо стыд получения чужого создавал бы изъян в этом совершенном благе. И чтобы они смогли удостоиться добра от Него, Всевышний создал некую сущность, которую они должны будут исправлять – чего Ему Самому не нужно, – и, исправляя ее, удостоятся. Эта сущность и есть сфирот. Получается, что задачей человека является исправление сфирот» [2, с. 21–122].
Г. Шолем именно в процессе творения и существования сфирот видит проявление этой эманации Бога, этого развертывания, которое позволяет одновременно появиться творению и не отделиться от своего Творца. Более того, он подчеркивает, что большой ошибкой является рассмотрение сфирот в качестве неких стадий, ступеней развертывания Творца, происходящих вне Всевышнего, будучи внешним творением. Напротив, лурианская каббала настаивает на внутрибожественном характере всех этих процессов. Сравнивая эманацию в неоплатонизме с эманацией в каббале, Г. Шолем приходит к выводу, что одной из отличительных черт является наличие у неоплатоников промежуточных ступеней, уровней, между Единым и материей, которые не принадлежат Единому. В то же время в каббале Аризаля сфирот – это эманации, проявления самого Творца, Его инструменты управления миром, которые никогда не теряют связи со своим Источником [9, с. 167].
Г. Шолем представляет сфирот как некие единицы процесса эманации и при этом прекрасно осознает проблематичность, парадоксальность соотношения сфирот как процесса, направленного в сторону творения, и Творца, как источника и вместилища эманируемого. Логическое затруднение здесь возникает потому, что эманация – это процесс одновременно и трансцендентный (прямое действие Творца), и имманентный (раскрывающий Творца в этом мире). Творческая энергия Всевышнего посредством эманации становится инструментом творения мира и в то же время инструментом раскрытия Себя миру [9, с. 167].
Мы уже несколько раз упоминали, что идея эманации появилась в религиознофилософской мысли задолго до того, как об этом стали задумываться еврейские мыслители. Начатки этой концепции просматриваются еще у Платона, затем эту идею развивали стоики, но наиболее ясно и подробно идея эманации раскрыта, конечно же, у Плотина. Для описания процесса эманации Плотин использует аналогии, которые позже становятся классическими и многократно используются в религиозной философии и теологии. Например, ис-хождение света от солнца, жара от огня, холода от снега и т. д. Это действительно более чем удачные аналогии, позволяющие понять и прочувствовать основные принципы процесса эманации. А. Х. Армстронг усматривает истоки этих идей у поздних стоиков, а именно в учении об «эманации hegemonikon» (управляющего разумного начала в человеческой душе) [4, с. 307].
А. Х. Армстронг особенно подчеркивает одну из характерных черт этой концепции, а именно: что бы и в каком бы объеме ни проистекало из источника эманации, последний не претерпевает никаких изменений, не истощается. При этом Плотин настаивает на непроизвольном, естественном характере эманации. Такой взгляд на процесс базируется на понимании источника эманации (Единое или Ум) как объекта безличного, не обладающего волей и смыслообразующей функцией, соответственно, не способного на целенаправленные, осмысленные действия. Из жизнеописания Плотина, из свидетельств его современников мы знаем, что он никогда не практиковал религиозных ритуалов и не поощрял это в своих учениках. Иными словами, он не видел никакого смысла в общении с безличным и безразличным к жизни людей Высшим Началом. В рамках же оценочных суждений Плотин неоднократно подчеркивает, что такие свойства, как волеизъявление, свобода выбора, осмысленность действий, способность к целеполаганию и смыслообразованию, характерны для самого низкого человеческого существования, тогда как естественность, спонтанность, неосознанность должны быть присущи самому высокому, идеальному уровню бытия.
Плотин подчеркивает, что в процессе эманации произведение не оказывает никакого влияния на свой источник. Со стороны Единого вообще не происходит никакого направленного действия, то есть действия осмысленного, никакого целеполагания, даже желания, проявления воли: «Оно не желает, не планирует, не выбирает и не заботится о том, что от него рождается» [4, с. 308]. Здесь необходимо заметить, хотя это может показаться странным современному человеку, выросшему, так или иначе, на аристотелевской традиции, что процесс выбора, целеполагания и осмысления – это с точки зрения традиции языческой, близкой к природе, низкий и непродуктивный способ существования. Идеальным здесь будет именно уподобление природным, естественным процессам: течь как вода. Лао-цзы со своим принципом «у-вей», по сути, говорит о том же самом – языческая традиция, только китайская. Кстати, аналогия с водой здесь очень уместна, поскольку такая эманация – это скорее истечение, а точнее, переливание через край.
Итак, в чем же основное сходство и различие между античной идеей эманации и ее трансформированной версией в авраа-мической традиции? Концепция сохранила в себе идею неизменности, «неиссякаемости» источника эманации вне зависимости от интенсивности и объема истечения или исхождения. Более того, иудаизм углубляет, усиливает эту идею учением о том, что все происходящее от источника эманации изначально заложено в нем. Иными словами, в творении не может быть ничего, что изначально не было в Творце, Эманатор содержит в себе абсолютно все эманируемое как бы в свернутом виде, а в процессе эманации последнее разворачивается. Тогда возникает вопрос: как же это сочетается с актом творения из ничего, который описывается в первых стихах Торы и является краеугольным камнем всех авраамических тра- диций? На этот вопрос можно попытаться ответить, если взглянуть на систему бытия со стороны религиозного человека. В повествовании о творении мы четко видим два основных уровня бытия:
-
1) уровень Всевышнего, Творца, и этот уровень характеризуется абсолютностью, безграничностью и вечностью;
-
2) уровень творения, который характеризуется ограниченностью материей, временем и пространством, а также имеет момент возникновения, начала.
Получается, что со стороны уровня Всевышнего, по сути, ничего нового не происходит: развертывание внутри «свечения», энергий Всевышнего того, что было всегда «внутри». Но со стороны уровня творения – это акт появления, проявления в ограниченном пространственно-временном континууме.
Совершенно очевидно и основное отличие античной концепции эманации и каббалистической. Единое Плотина не обладает теми «личностными» характеристиками, которые присущи Всевышнему в авраами-ческой традиции, а именно: свободной волей, смыслообразованием, целеполаганием и др. Поэтому эманация у Плотина имеет характер естественный, спонтанный, неконтролируемый как с точки зрения уровня Единого, так и с точки зрения более низших уровней бытия. Как известно, Плотин при жизни не очень-то жаловал официальный культ, т. е. он не видел смысла обращаться в своих чаяниях к Высшим мирам, поскольку они, по его мнению, не могут обладать характеристиками, позволяющими отвечать на просьбы человека. В авраамической же традиции, которая берет свое начало в Торе, Всевышний имеет соответствующие характеристики, следовательно, эманация обладает такими свойствами, как воление, целеполагание, осмысленность и контроль.
Если же посмотреть на процесс эманации в разрезе двух уровней бытия, о кото- рых мы сказали выше, то получается довольно сложная картина. На уровне Творца эманация имеет характер естественный, абсолютный, вечный и ничем не ограниченный, прямо как у Плотина. Однако на уровне творения, с точки зрения человека, эманация предстает с совершенно другой стороны – именно как акт творения из ничего, как осмысленный акт воли Творца, со своими целями, задачами и полным контролем над ситуацией. Тора создавалась для человека, поэтому неудивительно, что в ней с самых первых строк дается информация о творении с точки зрения самого творения.
В арабской (исламской) философии проблема творения также не прошла незамеченной. В частности, этот вопрос разбирает в своей книге «Тахафут ат-тахафут» («Опровержение опровержения») Ибн Рушд. В своих рассуждениях он основывается на Аристотеле, и его выводы заключаются в идее о неразрывной связи между Всевышним и Его творением, благодаря энергии или потенции Творца, которая действует в процессе эманации: «Таким образом, становится очевидным, что есть единая сущность, от которой эманирует единая энергия, благодаря которой все сущее имеет свое бытие» [1, с. 165].
Не обошла эта проблема и христианскую философию. На излете Средневековья ею заинтересовался Николай Кузанский. Так же как Ибн Рушд и многие другие средневековые философы, Николай из Кузы основывается на Аристотеле, но идет дальше, предлагая собственный термин для объяснения сложного и парадоксального процесса творения – possest (возможность-бытие). Логика рассуждений здесь такова: возможность есть – значит, возможность есть бытие; следовательно, возможность есть действительное бытие. Все возможное действительно, а все действительное возможно. Всю эту цепочку размышлений философ заключает в одном термине possest. «В нем, во всяком случае, схватывается все, и оно есть достаточно подходящее имя Божие, соответственно человеческому о Боге понятию. Оно есть имя всех вообще и отдельных имен и равным образом – ни одного из них» [5, с. 144–145]. Даже одно из имен Всевышнего в Торе («Я Бог всемогущий») Николай Ку-занский трактует как могущество Всевышнего любую возможность делать действительностью.
Иными словами, философ объединяет две фундаментальные категории – бытие (акт) и возможность (потенция) в Едином Абсолюте Всевышнего, справедливо полагая, что Творец обладает актуально абсолютно всеми категориями одновременно, объединяя в себе все. То, что на уровне человека является возможностью, которая может быть, а может и не быть в будущем, на уровне Всевышнего всегда есть, поскольку Он пребывает вне времени и пространства. Следовательно, все тварное бытие в момент творения как бы разворачивается из самого Творца, в котором до этого момента находится в состоянии возможности-бытия. Последнее, если переложить на язык современной физики, будет звучать как своего рода состояние суперпозиции, которое в момент творения, с началом времени, на уровне тварного мира меняется на состояние бытия. В то же время надо понимать, что, когда мы говорим о времени и используем такие языковые конструкции, как, например, находился, находится, будет находиться, до этого момента, после этого момента и т. д., всегда надо отдавать себе отчет в том, что такие конструкции имеют смысл только с точки зрения самого творения, поскольку оно существует всегда во времени и для него будет иметь смысл такое понятие, как «момент творения». На уровне же Всевышнего все подобные высказывания будут абсолютно бессмысленными, абсурдными, поскольку времени для Него не существует, Он пребывает в вечности и, соответственно, такое понятие, как «момент творения», для Творца просто-напросто отсутствует: «И если дело обстоит так, что Бог является и абсолютной возможностью, и действительным бытием, а также и связью их обоих, и что поэтому Он является всем возможным бытием в качестве действительного, – ясно, что Он в свернутом виде есть все. Ведь все, что каким-нибудь образом существует или может существовать, в самом начале присутствует в свернутом виде. А все, что создано и будет создано, развертывается из того, в чем оно существует в свернутом виде… Я утверждаю, что все это в свернутом виде в Боге есть Бог, подобно тому, как в развернутом виде в мирской твари оно есть мир» [5, с. 141].
Николай Кузанский здесь высказывает мысль о том, что вся Вселенная, существовавшая когда-либо, существующая сейчас и будущая на уровне бытия человека обладает актуальным бытием всегда на уровне Всевышнего, в самом Всевышнем в потенциальном, «свернутом» виде. Обратим внимание, что, употребляя термин «развертывание», Николай Кузанский, по сути, описывает именно эманацию. Более того, философ утверждает, что понятия «бытие» и «небытие» берут начало в Творце, но имеют смысл только на уровне творения. На уровне же Всевышнего в них нет никакого смысла, поскольку там бытие есть небытие, а небытие – бытие. Актуально, налично абсолютно все, а значит, ничего – в этом основа парадоксальности бытия Всевышнего в отношении сознания человека: «Ведь небытие, поскольку оно может быть благодаря Всемогущему, во всяком случае, обладает действительным бытием, поскольку абсолютная возможность обладает во Всемогущем действительным бытием. И если что-нибудь может возникнуть из небытия, то, какова бы ни была возможность такого возникновения, она, во всяком случае, налична в бесконечной возможности в свернутом виде. Следовательно, “не быть” означает там “быть всем”. Поэтому там, где возможность есть бытие, находится всякое творение, которое может быть приведено из небытия в бытие, и там оно есть сама возможность-бытие» [5, с. 152]. Здесь философ снова, со времен Платона, поднимает проблему бытия небытия и небытия бытия, но уже на теологическом уровне.
Обратим внимание на то, что Николай Кузанский подчеркивает неистощимость творческой мощи Всевышнего при актуальном наличии всего творения в Творце, не это ли базовые характеристики эманации, которые использовали в своей философии до этого и неоплатоники и еврейские мистики! Конечно, Николай Кузанский нигде напрямую не называет этот процесс эманацией, возможно, из-за опасений по поводу того, чтобы его не заподозрили в неоплатонизме, однако очевидно, что именно этот процесс он имеет в виду: «Отсюда следует, что Начало не истощает своей всемогущей силы ни в чем, могущем быть. Поэтому ни одно творение не есть возможность-бытие. Отсюда, всякое творение может быть тем, чем оно не является. Только одно Начало, поскольку оно есть сама возможность-бытие, не может быть тем, чем оно не является» [5, с. 153].
Далее философ находит достаточно удачную аналогию процессу творения – писатель и его книга. В этом он не был первым, вспомним хотя бы сборник древнееврейских мидрашей «Берешит раба», где говорится о том, что в основе творения мира лежит Тора: «Святой, благословен Он, глядел в Тору и творил мир» [6, с. 71]. Николай Кузанский продолжает эту традицию, говоря о том, что книга (весь тварный мир) еще до того, как реализоваться во времени и пространстве, в материальном мире, полностью реализована в писателе (Всевышнем) [5, с. 154].
Резюмируя свою идею «возможности-бытия», Николай Кузанский как бы объединяет учение Аристотеля о форме/материи, акте/потенции и монотеистическое учение о творении, где Бог является Формой всех форм и Первопричиной, неявно используя при этом идею эманации [5, с. 180].
Проблема творения мира и связанные с ней вопросы взаимоотношения Творца и творения также интересовали выдающихся русских религиозных философов XX в. Например, С. Л. Франк описывает отношения между Богом и миром термином «транcрациональность», подчеркивая ее непостижимую человеческим разумом природу. В то же время идею эманации он относит к рационально постижимым, противопоставляя ее монотеистической тайне творения. При этом, однако, философ признает определенную долю истины в идее эманации, поскольку именно такая идея способна одновременно выражать и отделенность мира от Творца, и их неразрывную связь. Тем не менее С. Л. Франк не может применить «языческую» идею эманации в отношении описания монотеистического сосуществования Бога и мира, поэтому он создает собственный термин для описания этого процесса: «трансрацио-нально-антиномистического монодуализма – как внутреннее единство двух или как двойственность одного» [8, с. 522].
Мы видим, что, с одной стороны, философ отвергает идею эманации в ее классическом, неоплатоническом варианте, с другой – именно эта идея была взята им за основу для выработки собственного понимания проблемы и ее решения. С. Л. Франк предлагает свое оригинальное понятие для определения парадоксальных отношений между Богом и миром в рамках тварного процесса: «трансрационально-антиноми-стический монодуализм». Понятие сложное и многогранное, которое сразу же указывает нам на парадоксальность и неразреши- мость этой проблемы в рамках логики и рационального мышления. Это описание состояния, которое одновременно должно обладать взаимоисключающими характеристиками: единством и разъединенностью. В попытке разъяснить эти сложные взаимоотношения С. Л. Франк ссылается также на Николая Кузанского, о котором мы говорили выше. Кроме всего прочего, философ использует понятие «всеединство», очень важное не только для него самого, но и для целой плеяды русских религиозных философов, о которых речь пойдет ниже. С. Л. Франк проясняет свою точку зрения следующим образом: мир (творение) находится во всеединстве Творца, но в то же время ни в коем случае не является Его частью. Он пишет: «Само “бытие-вне-Бога”, – сам момент “вне” и “отдельно” – находится в Боге, как и все вообще. Напомним опять глубокое изречение Николая Кузанского, что непостижимое единство Бога открывается сполна лишь в антиномическом единстве «Творца» и «творения» [8, с. 524].
С. Л. Франк продолжает идею Николая Кузанского о том, что творение – это «иное» Бога, описывая мир в качестве своеобразного материального облачения для абсолютно нематериального Творца. Несомненно, здесь угадываются чисто христианские мотивы очеловечивания (материализации) Бога в образе Иисуса, облачившегося плотью и явившего себя миру. Описывая этот процесс, философ как будто видит, как идеальное уплотняется, сгущается и становится осязаемой материей, своеобразным одеянием Творца. Мир – как бы одновременно и Творец, и нечто иное, отличное от Него, и снова философ пытается нащупать некую середину между эманацией и творением: «Мир не есть ни сам Бог, ни нечто логически “иное” чем Бог, и в этом смысле ему “чуждое” – мир есть «одеяние» Бога, «иное самого Бога» или, как говорит Николай Ку-занский, explicatio Dei. Мир есть то «иное
Бога», в котором «раскрывается», «выражается» Бог» [8, с. 525].
Здесь обращает на себя внимание оригинальность и парадоксальность языка С. Л. Франка. Философ пытается осмыслить тварный мир как «иное Бога», но не логически иное или чуждое, а как некую иную сторону самого Бога. Получается, что Всевышний творит мир в качестве своей иной стороны – это выглядит как некая попытка Бога взглянуть на себя со стороны, если так можно выразиться.
Любопытно, что С. Л. Франк также рассматривает описание процесса творения и с каббалистической точки зрения: «Мифологическая история творения или возникновения мира, изложенная в Каббале, чрезвычайно наглядно изображает это рождение мира из лона самого Божьего “не”, описывая, что Бог, будучи первоначально всеобъемлющей бесконечной полнотой, сжимается, уходит вовнутрь себя, в силу чего вокруг него образуется “пустое” пространство – как бы Божье “не” или “нет”, – на которое он отбрасывает, проецирует отблеск своего собственного существа, именно образ “небесного человека” – и тем “творит мир”» [8, с. 526–527].
Несмотря на то что философ со своей христианской позиции называет учение каббалы мифологическим, он не опровергает его, а скорее приводит здесь в качестве подкрепления своих идей. Однако обратим внимание на то, что данное описание отличается от приведенного нами в начале статьи: С. Л. Франк описывает процесс сжатия (цимцума) не вовне, от центра, а наоборот, внутрь к центру, оставляя миру всю периферию. Понятно, что так описываемое творение противоречит всей концепции Абсолютного Творца: получается, что вследствие сжатия Всевышний заключает Себя в рамки собственного творения, ограничивает Себя миром, что является не логичным с точки зрения зрелой (лурианской) каббалы.
С. Л. Франк здесь опирается на понимание более ранней (долурианской) каббалы, которая, согласно Г. Шолему, основывается на комментарии Нахманида к «Сефер йецира» и некоем малоизвестном трактате середины XIII в. [9, с. 325]. Трудно сказать, почему философ использует в своих рассуждениях раннюю, малоизвестную версию каббалистического учения, а не общепринятую и распространенную в его время, но факт остается фактом. Вероятнее всего, именно такая ранняя версия каббалы больше подходит его собственным идеям, его собственной философии.
Если мы рассмотрим другого выдающегося русского религиозного философа – С. Н. Булгакова, то увидим, что он также выступает против неоплатонического (классического) учения об эманации, т. е. эманации как некоего пассивного, безвольного, непроизвольного истечения творения из Творца, поэтому он по-своему интерпретирует понятие эманации, видоизменяет его и в результате говорит о творчески, инициативно направленной эманации, подчеркивая осмысленность и волевой характер акта творения. Он пишет: «Мир реален в своей божественной основе, поскольку бытие его есть бытие в Абсолютном, – в этом сходятся идеи как творения, так и эманации. Но в идее творения мир полагается вместе с тем и вне Абсолютного, как самобытное относительное» [3, с. 157].
С. Н. Булгаков использует аналогию, которая очень хорошо иллюстрирует каббалистическое понимание взаимоотношений мира и Бога в процессе творения, – ребенок в утробе матери: с одной стороны, ребенок – это уже некая самостоятельная жизнь, он отличен от тела матери, в нем уже происходят индивидуальные процессы, с другой – он не может существовать без тела матери, поскольку получает от нее питание, защищен ее телом от разрушительного воздействия окружающей среды и т. д.: «Мир покоится в лоне Божием, как дитя в утробе матери» [3, с. 158].
Философ, однако, не отвергает идею эманации, а включает ее как одну из составляющих в понятие творения мира Богом. Причем он неоднократно упоминает, что квинтэссенция акта творения воплощается в творческом речении Бога: «Да будет»! Эта мысль явно перекликается с древнееврейским учением о том, что мир был сотворен десятью речениями, каждое из которых начинается словами: «И сказал Творец…». В частности, это учение изложено в одном из ранних сборников мидрашей «Пиркей де раби Элиезер» («Поучения великого раби Элиезера») [7, с. 22]. С. Н. Булгаков объединяет понятия творения и эманации, включая одно в другое. Философ считает, что понятие творения шире понятия эманации, как бы вбирает в себя последнее. Действительно, и в монотеистической картине мира вполне уместна аналогия с переполняющимся через край Источником бесконечного блага, но обязательно и дополнение в качестве целеполагающего, волевого акта «Да будет!» [3, с. 158].
Кроме того, С. Н. Булгаков переосмысливает роль небытия, ничто в учении о творении. Как известно, согласно авраами-ческой традиции, зафиксированной в текстах Торы, Библии и Корана, Всевышний творит мир из ничего – вот именно об этом «ничто» идет речь. Философ считает, что это небытие посредством творческого акта преобразуется в некое мирообразующее начало, в нечто, проявляющее божественные энергии, которыми пронизано все творение. Конечно, нельзя забывать, что в монотеистической картине мира нет места пер-воматерии, никакого «что», из которого Бог творит. Использование же термина «ничто» намекает на некое первобытие – это все та же платоновская проблема бытия небытия. Еще Платон в диалоге «Софист» задает следующий вопрос: как возможно бытие небытия? Дело в том, что использование некоего понятия для обозначения «ничто» (для обозначения ничего), мягко говоря, странно, ведь использование какого-либо понятия уже несет в себе (автоматически) указание на нечто, существующее (присутствующее), на то, что есть. Даже если мы говорим о несуществовании небытия как реального объекта, мы не можем избавиться от утверждения существования самого понятия «небытие». При этом надо не забывать, что мы все это время находимся в рамках исключительно абстрактных понятий, где грань между реальным и нереальным чаще всего проследить невозможно, а, точнее, все вообще становится реальным, поскольку все обладает понятием, где можно рассуждать только в рамках диалектики.
Обсуждение и заключение
Итак, рассмотрев различные философские и теологические концепции мыслителей, принадлежавших к разным религиозным направлениям, но объединенных авраамической традицией, мы можем сделать определенные выводы о том, как они пытались решить основной парадокс идеи творения. Во-первых, все они так или иначе основываются на идее эманации, которая берет начало в античной мысли: платонизме и неоплатонизме. Во-вторых, каждый из философов, рассмотренных нами, по-своему интерпретировал или преобразовывал идею эманации, встраивая ее в идею творения мира Богом. Таким образом, философский сплав одной из оригинальных идей античности и фундаментальной идеи авраамической традиции дает нам возможность приблизиться к решению одного из самых сложных парадоксов религиозной мысли.