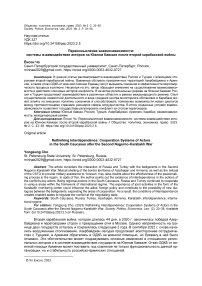Переосмысление взаимозависимости: системы взаимодействия акторов на Южном Кавказе после второй карабахской войны
Автор: Чо Нсон
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается взаимодействие России и Турции с воюющими сторонами второй карабахской войны. Взаимные обстрелы приграничных территорий Азербайджана и Армении, а также отказ ОДКБ от военной помощи Еревану могут вызывать сомнение в эффективности миротворческого процесса в регионе. Несмотря на это, автор обращает внимание на существование взаимозависимости в действиях ключевых акторов конфликта. В качестве региональных держав на Южном Кавказе Россия и Турция продолжают взаимодействие в различных областях в рамках международного режима. Опыт осуществления совместной деятельности в виде создания центра мониторинга обстановки в Карабахе может влиять на внешнюю политику союзников и способствовать появлению возможности новых диалогов между противостоящими странами, расширяя сферы сотрудничества. В итоге созданные условия взаимозависимости позволяют государствам регулировать конфликт за столом переговоров.
Южный кавказ, Россия, турция, азербайджан, армения, карабах, взаимозависимость, международный режим
Короткий адрес: https://sciup.org/149142452
IDR: 149142452 | УДК: 327 | DOI: 10.24158/pep.2023.2.5
Текст научной статьи Переосмысление взаимозависимости: системы взаимодействия акторов на Южном Кавказе после второй карабахской войны
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, ,
Кроме того, в этой связи необходимо рассмотреть особенности взаимодействия России и Турции, которая репрезентирует позицию НАТО по вопросу спецоперации и является надёжным союзником Азербайджана в Карабахе. Несмотря на турбулентность, отношения обеих региональных держав последовательно развиваются с момента распада Советского Союза. Возросла взаимозависимость между Москвой и Анкарой в областях туризма, инвертирования и в энергетической сфере. С началом карабахского конфликта Турция разместила истребители в Азербайджане, но они не участвовали в военных операциях; российские войска, дислоцированные в Армении, также не были задействованы в противостоянии. Обе стороны лишь согласились на создание центра мониторинга ситуации в Карабахе. Однако новой миротворческой структуре не удалось предотвратить дальнейшие столкновения противостоящих сторон. Видимо, предназначенные для миротворчества и развития сотрудничества организации ждёт «мрачное будущее», так как на фоне военных действий на Южном Кавказе очевидно, что страны предпочитают приобретать власть военными средствами. Однако повторные переговоры о прекращении огня были также проведены в рамках взаимодействия государств.
Актуальность темы исследования определяется тем обстоятельством, что даже при военном конфликте нельзя игнорировать роль международной системы, взаимозависимость между акторами в глобальном отношении и опыт их взаимодействия.
Теоретической базой работы являются идея «комплексной взаимозависимости» Р. Кеохейна (Keohan, Nye, 2011) и концепция «международного режима» С. Краснера (Krasner, 1982).
В качестве задач исследования выступили следующие: 1) анализ отношений взаимозависимости между Россией и Турцией, выступающих в качестве союзников противостоящих стран, на основе научных публикаций; 2) характеристика деятельности центра мониторинга ситуации в Карабахе как демонстрации взаимозависимости акторов в регионе; 3) обоснование возможности урегулирования конфликтов в рамках международного режима даже в условиях разноролевого статуса ключевых действующих лиц на основе принципов взаимозависимости.
Россия и Турция склонны разделять вопросы экономического сотрудничества и военных интересов. Находясь в отношениях взаимозависимости, Москва и Анкара прилагают усилия для урегулирования спорных ситуаций и предотвращения негативного влияния одной сферы на другую, поскольку им необходимо учитывать затраты на строительство инфраструктуры или обслуживание предприятий, понесенные ими в ходе реализации взаимных обязательств по экономическим договоренностям.
Каждому из государств необходимо учитывать свои интересы в регионе, однако при этом сохранение баланса сил позволит добиться большей продуктивности от внешней политики (Keohane, Nye, 2011). Например, при ухудшении межгосударственных отношений каждая страна-участница будет вынуждена понести убытки вследствие ликвидации совместных проектов. Будет потеряно время, денежные средства, потребуется найти альтернативу партнерским отношениям.
В таких условиях обе стороны склонны к урегулированию столкновения своих национальных интересов в рамках системы, называемой «международный режим». Под данным понятием подразумеваются «наборы неявных или явных принципов, норм, правил и процедур принятия решений, вокруг которых сходятся ожидания участников в данной области международных отношений» (Krasner, 1982). Более того, как только определены границы процесса принятия решений, государства-участники акцентируют свои национальные интересы в рамках действующих правил. Региональные державы не являются исключением: они могут получать поддержку от других приверженцев международного режима, предоставлять свои ресурсы и следить за выполнением обязательств третьими участниками.
Акторы противостояния на Южном Кавказе прямо или косвенно связаны друг с другом в форме международного режима. Складывается ситуация, когда страны в одной области взаимодействия развивают сотрудничество, преимущественно по экономическим вопросам, а в другой – за столом переговоров решают военные вопросы – обсуждают условия прекращения столкновений. Результат взаимодействия такого плана может положительно сказаться на договорных стратегиях участников и в других сферах. Рассмотрим подробнее, какой характер имеют российско-турецкие взаимоотношения и каким образом на них влияет взаимозависимость между странами в контексте международного режима.
Примечательно, что в некоторых исследованиях, посвященных российско-турецким отношениям, полная взаимозависимость сторон ставится под сомнение. Она признается «асимметричной»: так как доля российского газа в объёме импорта углеводородов в Турцию чрезвычайно высока, это обстоятельство может влиять на результаты переговоров стран в других сферах в пользу поставщика энергоресурсов (Öniş, Yılmaz, 2016).
С. Кёстем заметил, что термин «комплексная взаимозависимость», используемый Р. Кеохейном и Дж. Наем для обозначения характера отношений между Москвой и Анкарой, не является подходящим. По его мнению, на фоне экономических санкций, введенных Западом против России, вопросы обеспечения национальной безопасности каждой из стран, такие как крушение самолета, военные операции в Сирии, препятствуют развитию между ними двусторонней взаимозависимости комплексного характера (Köstem, 2018).
П. Баев утверждает, что вследствие пандемии коронавируса наблюдается снижение зависимости Турции от российского газа и увеличение доли азербайджанских углеводородов на ее рынке (Baev, 2021).
Д. Исаченко указывает, что на российско-турецкие отношения оказывают влияние факторы геополитики. По её мнению, это позволяет обеим сторонам сотрудничать друг с другом не по принципу компартментализации, а на основе создания взаимовыгодных совместных проектов (Isachenko, 2021).
Следует сказать, что П. Баев и Д. Исаченко отметили новые тенденции в развитии российско-турецких отношений: с момента введения западных санкций против Москвы наблюдается снижение уровня зависимости Турции в сфере энергетики, и все очевиднее становится расхождение национальных интересов двух государств по целому ряду вопросов, несмотря на нормализацию отношений и ряд совместных проектов. В свете сказанного развитие отношений между гражданскими сообществами обоих государств является затрудненным, поскольку вопросы военной безопасности стран являются приоритетными для каждой из них.
Разумеется, утверждение Д. Исаченко об отсутствии компартментализации в отношениях Анкары и Москвы убедительно в некоторой степени, так как совместные проекты России и Турции находятся под влиянием не только двусторонних и международных отношений в сфере безопасности. Можно привести пример значимой в этом отношении закупки военной техники Турции у России в 1993 г. и заключение договора о строительстве газопровода «Голубой поток» в 1997 г., когда продолжалось противостояние стран по поводу отказа Москвы от признания Рабочей партии Курдистана террористической организацией или поддержки Анкарой чеченских вооруженных формирований во внутрироссийском конфликте конца 1990-х годов (Kınıklıoğlu, 2006).
Таким образом, в ходе реализации проекта «Турецкий поток» были нивелированы имеющиеся противоречия и запущен процесс нормализации отношений. Это подразумевает, что в этот период уже существовала взаимозависимость между двумя государствами. Даже при ее «асимметрии» поставщик ресурсов не всегда получает преимущество в ходе переговоров, поскольку ему также необходимо учитывать затраченные время и средства на экспорт, а диверсификация страны-импортёра повлечет за собой поиск альтернатив для переориентации рынка.
Таким образом, разногласия России и Турции по вопросам, касающимся военных действий в некоторых регионах, можно рассматривать как взаимозависимость, так как стратегия действий одной стороны определяется ее чувствительностью и уязвимостью к контрстратегии другой. Взаимозависимость не должна являться симметричной.
Российско-турецкие отношения стали носить системный характер, когда обе стороны согласились на основание Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) в 2010 г. Несмотря на то, что военная безопасность занимает высокое место в иерархии вопросов, подлежащих обсуждению между сторонами, уже существуют институты, предназначенные для решения проблем в других областях взаимодействия. Это позволяет России и Турции не предпринимать агрессивных шагов в регионах, где обнаруживается расхождение интересов между их позициями в отношении безопасности. Снижение объемов поставок газа и торгового оборота не означает в дальнейшем ухудшения отношений двух стран в контексте их взаимозависимости.
Карабах является одной из зон геополитической турбулентности в российско-турецких отношениях. Несмотря на разногласия с Западом по политическим вопросам, Турция проявляет свои национальные интересы в этом регионе с помощью углубления отношений с Азербайджаном, сохраняя свое членство в НАТО. Военная помощь Анкары Баку может вызывать озабоченность Москвы, способствуя ее восприятию Турции как регионального соперника на Южном Кавказе. В ответ на это обстоятельство Россия развернула две военные базы на территории Армении, которая является одним из членов-государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с Москвой.
Такое положение может рассматриваться как баланс сил между Россией и Турцией. Военное столкновение на Южном Кавказе, с одной стороны, представляет собой борьбу за территорию для Азербайджана и Армении, а с другой – может быть названо «прокси-войной (proxy war)» в соответствии с событиями в других регионах мира: в Сирии российские военные силы нанесли удар по турецким войскам, а обе стороны отправили своих военных советников в Ливию для поддержки противостоящих друг другу фракций. Кроме того, Эрдоган открыто заявил о военной поддержке Азербайджана, и Анкара поставила Баку беспилотник «Байрактар» (Dalay, 2021).
В результате 44-дневной войны Баку и Анкаре не удалось нарушить статус-кво в регионе. Россия не вмешалась в войну за Карабах и не вступилась за Армению, а лишь отправила миротворцев в зону конфликта в целях обеспечения безопасности Лачинского коридора.
Эксперты убеждены в том, что победа Азербайджана в этом противостоянии являет собой геополитическое поражение не только для Армении, но и для России1. В результате войны Баку восстановил контроль над территорией части бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и западными районами, утраченными ранее вследствие поражения в первой карабахской войне. Кроме того, еще в 2021 году после заявления о прекращении огня был предусмотрен транспортный коридор «Зангезур», объединяющий юго-западные районы Азербайджана, Нахичевань и территорию Турции через Сюникскую область Армении2.
Однако усиление геополитической и экономической связи между Турцией и Азербайджаном не означает тотального поражения Москвы в соперничестве с Анкарой. Снижение уровня зависимости Турции от России может обернуться увеличением числа альтернативных субъектов взаимодействия. Развитие инфраструктуры на Южном Кавказе в обход территории России (газопроводы, железная дорога т.д.) снижает уровень зависимости стран региона от Москвы. Но альтернатива не всегда представляет собой «совершенный заменитель» государства-партнера, поскольку с третьей стороной приходится выстраивать отношения с учетом изменений в политике второй стороны и их последствий для себя. Более того, при изменениях отношений с третьим государством инфраструктура, построенная в рамках сотрудничества между старыми партнерами, опять может стать «альтернативой» новому варианту. Можно сказать, что сети взаимоза-висимостей влияют на вектор решений ключевых игроков в регионе.
Такой механизм сотрудничества между государствами позволяет создавать и развивать международный режим, что способствует развитию отношений между государствами в одной сфере и расширению их сотрудничества – в других. При этом действует концепция зависимости от предыдущего пути развития – государства склонны уделять столько же внимания взаимодействию со старым партнером, сколько и развитию сотрудничества с новым.
В рамках международного режима принятые Турцией меры для снижения зависимости от российских углеводородов, инфраструктуры и ряд военных столкновений двух государств не привели к ликвидации совместных проектов и общему ухудшению двусторонних отношений. Москва и Анкара создали условия для обсуждения значимых для них вопросов по экономике и национальной безопасности и участвуют в региональных и международных организациях. Имеющаяся система эффективна для сохранения политико-экономической связи и минимизации разногласий между участниками.
Центр мониторинга ситуации в Карабахе является примером того, что взаимозависимость играет важную роль в российско-турецких отношениях. Ранее конструктивные переговоры были невозможны, а принятие решения о прекращении конфликтов осуществлялось в рамках ОБСЕ Минской группы (Perinçek, 2021). В условиях европейской системы не удалось смягчить «реалистическое» соперничество и преодолеть статус-кво между акторами до второго военного столкновения за Карабах. К тому же, Запад обращает внимание на напряжённость между Азербайджаном и Арменией на фоне спецоперации России, организовывая встречи лидеров и министров иностранных дел обеих противостоящих сторон.
Нельзя игнорировать и тот факт, что созданные тремя странами правила о прекращении огня в регионе заложили основание для успешного хода переговоров. Такая система принятия решений, разработанная региональными акторами, более эффективна и целесообразна, так как основана на взаимозависимости между ними. В состоянии мира государства склонны развивать экономические контакты со своими соседями. Их чувствительность к изменениям политики стран-партнеров проявляется не только в сфере торговли, национальной безопасности, но и во многих других.
Даже при развертывании военного конфликта взаимозависимость противостоящих стран проявляется в полной мере. И Баку, и Еревану в ходе ведения боевых действий необходимо учитывать возможный ущерб от них для послевоенного взаимодействия друг с другом и третьими странами.
Контакты между Москвой и Анкарой могут способствовать прекращению эскалации напряженности. Вероятно, даже наличие институтов по урегулированию конфликтов, созданных по их совместной инициативе, препятствует развертыванию полномасштабной войны, несмотря на агрессивные заявления Ильхама Алиева о реализации проекта Зангезурского коридора3.
Стоит отметить, что на Южном Кавказе наблюдается не только соперничество между альянсами, но и взаимозависимость между всеми региональными акторами. В процессе прекращения противостояния прямо и косвенно задействованы и союзники воюющих государств, которые развивают собственное взаимодействие независимо от разногласий в одной сфере. Так, Россия и Турция много лет создавали взаимозависимые двусторонние режимы коммуникации в разных сферах, что позволило им на фоне конфликта между Азербайджаном и Арменией и разных точек зрения на него сохранить взаимную заинтересованность в продолжении контактов. Более того, созданные Анкарой и Москвой структуры способствуют уменьшению военной напряженности между участниками карабахского конфликта, по крайней мере, позволяют им обсуждать вопросы без принятия радикальных мер. Также следует помнить, что действия воюющих сторон и их отношения с союзниками находятся под влиянием международного режима. Например, с момента создания центра мониторинга безопасность Лачинского коридора гарантирована, а заключение трехсторонних договоров в Москве предотвратило полномасштабную войну.
Широко известно, что Южный Кавказ является одним из компонентов ближнего зарубежья в геополитической стратегии РФ, а уровень взаимозависимости между Россией, Азербайджаном и Арменией высок в различных областях. Армения, являясь участником ОДКБ и членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), зависит от России в сферах экономики, энергетики и военной безопасности. Товарооборот между двумя странами растет, и инвестиции России в регион связаны с ее внешней политикой на Южном Кавказе (Пылин, 2021). Несмотря на отказ ОДКБ в оказании военной помощи Армении, Россия продолжает развивать сотрудничество с ней в сфере экономики.
Однако отношениям с Азербайджаном Москва также придает немаловажное значение. Двусторонние контакты комплексно укрепляются: кроме тесной связи в сфере торговли и энергетики, Азербайджан является одним из импортёров российской военной техники, его специалисты получают образование в военных вузах России (Nəcəfov, Seyidov, 2020).
И азербайджанский, и армянский факторы являются для внешней политики России. Поэтому договор о прекращении огня подразумевает зависимость трех стран друг от друга.
Турецко-азербайджанское «братство» обозначает высоко взаимозависимые отношения двух стран. Одним из важных направлений взаимодействия тюркских народов являются поставки углеводородов и обеспечение их безопасности. Обе стороны создали партнерство с Грузией, и этот трехсторонний «режим» расширяет сферу сотрудничества и укрепляет взаимозависимость между его участниками как между экспортёром, импортёром и транзитной страной (Garibov, 2017).
Взаимозависимость также существует в отношениях между Турцией и Арменией. Несмотря на то, что сухопутная граница закрыта и не нормализированы дипломатические отношения, продолжается торговля и пассажирские перевозки через Тбилиси. Прежде всего, Анкара и Ереван чувствительны и уязвимы к воздействию внешнего фактора, такого как российско-грузинская война. Практически в ходе конфликта 2008 г. был приостановлен экспорт продукции Армении через грузинский порт, а Турция опасалась получить ущерб инфраструктуры через Грузию в обход России1. Это позволяет обеим сторонам рассматривать друг друга как альтернативных партнеров для взаимодействия.
В заключение рассуждений следует сказать следующее. Несмотря на противостояние ключевых акторов на Южном Кавказе (Россия, Турция, Азербайджан и Армения), между ними существуют тесные взаимозависимые отношения. Военное противостояние Азербайджана и Армении находится под влиянием российско-турецких контактов. Взаимодействие между Москвой и Анкарой осуществляется в рамках международного режима, что позволяет государствам избегать агрессивных мер, организовывая переговоры в различных областях. Более того, системные структуры взаимоотношений региональных держав также оказывают косвенное влияние на дипломатические связи их союзников, распространяя взаимозависимость. Вышеуказанные переговоры между тремя странами в Москве являются одним из примеров тесной взаимозависимости между Россией, Арменией и Азербайджаном.
Международный режим на Южном Кавказе способствует сдерживанию развития военного конфликта и предотвращает разрыв отношений между странами. Например, снижение объемов импорта российского газа в Анкару не ведет к прекращению контактов между странами.
Российско-турецкий центр мониторинга символизирует, что взаимозависимость между странами в одной сфере распространяется и на другие. Территориальные претензии Азербайджана к Армении в связи с реализацией проекта «Зангезур» не спровоцировали полномасштабную войну на Южном Кавказе, благодаря распространению влияния принципов взаимозависимости на дипломатическую сферу заинтересованных участников конфликта. Можно сказать, что к такому результату привели тесные сети международного режима в различных сферах, который связывает прямо и косвенно акторов друг с другом в регионе. Поэтому отказ ОДКБ от военной помощи Армении не означает упадка международного режима и утраты отношений взаимозависимости в регионе.
Разумеется, как показал обстрел приграничных территорий в сентябре 2022 г., страны на Южном Кавказе далеки от состояния мира. Между акторами существуют противоречия, однако, как в сфере экономики и энергетики, так и в сфере военной безопасности, международный режим позволяет участникам обсуждать актуальные вопросы за столом переговоров, предотвращая тотальную войну.
Таким образом, несмотря на отсутствие идеальной гармонии в отношениях стран, между участниками карабахского конфликта и их региональными соседями существуют отношения взаимозависимости, обеспечивающие возможность решения спорных вопросов путём переговоров и сотрудничества. На Южном Кавказе продолжается процесс миротворчества.
Список литературы Переосмысление взаимозависимости: системы взаимодействия акторов на Южном Кавказе после второй карабахской войны
- Пылин А.Г. Проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества Армении и России в современных условиях // Инновации и инвестиции. 2021. № 6. С. 13-17. https://doi.org/10.24412/2307-180X-2021-6-13-17.
- Baev P. Russia and Turkey: Strategic Partners and Rivals. Paris, 2021. 30 р.
- Dalay G. Turkish-Russian Relations in Light of Recent Conflicts: Syria, Libya, and Nagorno-Kararbakh. Berlin, 2021. 38 р.
- Garibov A. Security Dynamics in the South Caucasus since Independence: Interconnected Threats and Security Interdependence // Caucasus International. 2017. Vol. 7, iss. 1. P. 65-69.
- Isachenko D. Turkey and Russia: The Logic of Conflictual Cooperation. Berlin, 2021. 34 р.
- Keohane R., Nye J. Power and Interdependence. Boston, 2011. 330 р.
- Kiniklioglu, S. The Anatomy of Turkish - Russian Relations // Insight Turkey. 2006. Vol. 8, iss. 2. P. 81-96.
- Kostem S. The Political Economy of Turkish-Russian Relations: Dynamics of Asymmetric Interdependence // Perceptions. 2018. Vol. 23, iss. 2. P. 10-32.
- Krasner S. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International Organization. 1982. Vol. 36, iss. 2. P. 185-205. https://doi.org/10.1017/s0020818300018920.
- Nacafov, Z.N., Seyidov M.M. Azarbaycan - Rusiya munasibatlarinin muasir marhalasi // Progressive Science Journal. 2020. Vol. 3, iss. 4 (6). P. 22-23. https://doi.org/10.46591/PSJM.2020.0304.0005. (на азерб. яз.)
- 6ni§ Z., Yilmaz §. Turkey and Russia in a Shifting Global Order: Cooperation, Conflict and Asymmetric Interdependence in a Turbulent Region // Third World Quarterly. 2016. Vol. 37, iss. 1. pp. 71-95. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1086638.
- Peringek M. New Era in the South Caucasus: The Turkish-Russian Joint Monitoring Center // Постсоветские исследования. 2021. Т. 4, № 2. С. 127-128.