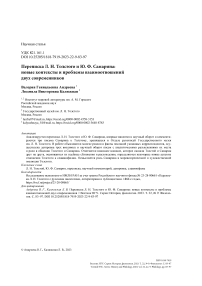Переписка Л. Н. Толстого и Ю. Ф. Самарина: новые контексты и проблемы взаимоотношений двух современников
Автор: Андреева В.Г., Калюжная Л.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Анализируется переписка Л. Н. Толстого и Ю. Ф. Самарина, впервые вводятся в научный оборот и комментируются три письма Самарина к Толстому, хранящиеся в Отделе рукописей Государственного музея им. Л. Н. Толстого. В работе объясняются многие реалии и факты посланий указанных корреспондентов, осуществлена датировка трех вводимых в научный оборот писем с аналитическими разъяснениями их места и роли в общении Толстого и Самарина. Отмечается взаимное влияние, которое оказали Толстой и Самарин друг на друга, оцениваются их идейные сближения и расхождения, определяются некоторые новые аспекты отношения Толстого к славянофилам. Осмысляется роль Самарина в мировоззренческой и художественной эволюции Толстого.
Л. н. толстой, ю. ф. самарин, переписка, научный комментарий, датировка, славянофилы
Короткий адрес: https://sciup.org/147242444
IDR: 147242444 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-9-83-97
Текст научной статьи Переписка Л. Н. Толстого и Ю. Ф. Самарина: новые контексты и проблемы взаимоотношений двух современников
Современные исследователи творчества Л. Н. Толстого справедливо замечают, что переписка знаменитого классика с русскими писателями, литераторами и публицистами до сих пор содержит немало непроясненных мест, требующих научного комментария. Большинство писем Толстого и к Толстому уже опубликовано (в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого, в издании «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями» в 2 томах, в советское время выдержавшем два издания [Толстой, 1928–1958; Л. Н. Толстой. Переписка…, 1978]), однако есть и такие ценные материалы, которые еще не были обнародованы. В частности, это касается писем к Толстому Юрия Федоровича Самарина (1819–1876) – русского публициста и общественного деятеля, славянофила, много сил и времени отдавшего работе по подготовке крестьянской реформы.
Несмотря на то что общение Толстого и Самарина не было очень продолжительным, а вся переписка между ними относится к 1860-м гг., Самарин на протяжении почти двух десятилетий оставался для Толстого одним из самых интересных и близких по духу и типу мышления людей. Переписка корреспондентов насчитывает всего 5 писем: сохранились три письма Са- марина и два письма, написанные Толстым. Они позволяют глубже осмыслить взаимоотношения классика и общественного деятеля, уяснить некоторые важные аспекты литературной, культурной и политической жизни России времени великих реформ.
Целью данной статьи является аналитическое изучение переписки Толстого и Самарина, введение в научный оборот трех писем, которые хранятся в Отделе рукописей Государственного музея им. Л. Н. Толстого в Москве и до этого времени не были опубликованы. Авторами настоящей статьи представлен подробный научный комментарий к письмам обоих корреспондентов, объяснены многие реалии и факты, которым в толстоведении не уделялось внимания, осуществлена датировка трех вводимых в научный оборот писем с аналитическими разъяснениями их места и роли в общении Толстого и Самарина. В работе используются биографический, сравнительно-сопоставительный, историко-типологический, герменевтический и онтологический методы.
Взаимодействию и взаимоотношениям Толстого и славянофилов, отдельным идейным моментам творчества писателя, близким к славянофильскому направлению, не уделялось должного внимания в советское время. В последнее десятилетие этому вопросу посвящается все больше интересных работ – М. А. Можаровой [2012; 2013], Ю. В. Лебедева [2021], Л. А. Сапченко [2020], А. Кавацца [1998], И. Ш. Юнусова [2014], И. Ю. Матвеевой [2022], С. А. Шпагина [2004] и др., однако указанное поле для изучения так велико, что проблема до сих пор остается актуальной. Еще больший пробел в литературоведении связан не просто с отношениями, а с перепиской Толстого и славянофилов. Проблема творческих и личных связей Толстого и Самарина, их взаимодействия и особенно переписки до сих пор не была в поле внимания ученых. Единственная статья, посвященная этой теме, – это работа М. А. Можаровой «Ю. Ф. Самарин и Л. Н. Толстой в литературно-эстетическом контексте эпохи» [2020]. Автор рассматривает литературно-эстетические споры 1840–1850-х гг., отношение к ним Толстого и Самарина, описывает историю взаимодействия писателя и общественного деятеля. Однако за рамками внимания М. А. Можаровой в этой содержательной работе остались некоторые важные аспекты взаимоотношений Толстого и Самарина, в том числе история их переписки.
Результаты исследования
Известно, что Толстой познакомился с Самариным в 1856 г. Впервые его имя упоминается в дневнике Толстого 23 мая 1856 г.: «Поехал к Юрию Самарину с Оболенским. Юрий Самарин очень мне нравится. Холодный, гибкий и образованный ум. Его звали обедать. Я уехал, обещаясь вернуться в 11» [Толстой, 1928–1958, т. 47, с. 74] 1. Молодой, но уже признанный писатель в это время посещал Москву и Петербург не просто ради общения и развлечений, но в том числе и с целью выбора дальнейшего пути, достойного круга для делового и творческого сотрудничества. В русской критике, среди современников-литераторов так и осталось недооцененным толстовское «Утро помещика», вышедшее в 12 номере журнала «Отечественные записки» за 1856 г. Однако волновавшие писателя проблемы организации хозяйственной жизни, во многом чуждые Некрасову и Тургеневу как землевладельцам, активно поднимал Самарин – и как хозяин, и как государственный деятель. Среди статей, написанных до открытия Самарского губернского комитета 25 сентября 1858 г., есть его работа «О теперешнем и будущем устройстве помещичьих крестьян в отношениях юридическом и хозяйственном», в которой публицист пишет: «Нас, помещиков, пугает мысль не только новая, но даже несколько обидная для нашего самолюбия, что нам придется перевоспитывать самих себя, изменять свое обращение с окружающими нас людьми и переламывать свои домашние привычки…» [Самарин, 1885, т. 3, с. 35]. Уже этот отрывок показывает сходство воззрений Самарина и Толстого в понимании ими в 1860-е гг. сложности трансформации закоснелой крепостнической системы, необходимости инициативных перемен.
Толстого привлекали в это время сильные личности, люди, способные стать учителями, вести за собой. Писатель в конце 1850-х и в 1860-х гг. усиленно искал лучшего друга и союзника сначала в Б. Н. Чичерине – примерно в 1858–1859 гг. [Андреева, 2023, с. 63], а потом и в Самарине. В 1862–1867 гг. Толстого притягивали начитанность, образованность Чичерина и Самарина, их государственная служба, мысль о необходимости быть полезным своей стране. Они придерживались различных взглядов, однако это не мешало общению либерала Чичерина и консерватора Самарина. Чичерин писал: «В Москве было несколько человек, которые умели хорошо говорить: Юрий Самарин, Черкасский, Голохвастов…» [Чичерин, 2010, т. 2, с. 67]. Примечательно, что из всего образованного общества Чичерин указывает только три имени и ставит Самарина на первое место.
Для либерала Чичерина был ненавистен напускной либерализм, он ожидал от властей утверждения прав и свобод личности. Отрицательно, как к пережитку прошлого, Чичерин относился к крестьянской общине, к произволу властей, к бюрократии, настаивал на том, что самодержавная власть уже выполнила в России свою основную задачу. Консерватор и славянофил Самарин, сходясь с Чичериным в негативной оценке крепостнического общества, наоборот, всеми силами призывал к реформам при сохранении дворянских прав, самодержавия, был противником принятия конституции, считая Россию еще не готовой к этому решительному шагу.
По нашему мнению, не случайно после охлаждения отношений Толстого с Чичериным, которое произошло во время заграничной командировки последнего и второй поездки Толстого в Европу [Андреева, 2023], Толстой обратился в сторону Самарина, в то время принимавшего реальное участие в подготовке Крестьянской реформы, отрицательно относившегося к западноевропейскому рационализму, апофеозу личности в европейской общественной жизни, писавшего о необходимости ликвидации крепостного права, но при сохранении прежних форм жизни во избежание потери крестьянами нравственных ориентиров, связи с землей, деревней, общиной. В статье «Два слова о народности в науке» Самарин писал: «…говоря о русской народности, мы понимаем ее в неразрывной связи с православною верою, из которой истекает вся система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнью русского человека» [Самарин, 1877, т. 1, с. 111].
И Самарин, и Чичерин были во многом уверенными в себе и упорными, готовыми к борьбе и отстаиванию своей правды общественными деятелями (это же качество, фактически даже упрямство, отмечали современники и в Толстом). Вступив 25 июня 1858 г. в Самарский губернский комитет в качестве члена от правительства, Самарин развернул там бурную деятельность, составил свой проект положения об улучшении быта крестьян. Во всех государственных учреждениях, где находился Самарин, он проявлял себя как неуклонный борец.
Приезды Толстого в Москву в 1858 г., как правило, сопровождались общением с Самариным, которое всегда, даже в неформальной обстановке, было достаточно серьезным. Так, 27 января 1858 г. Толстой записывает в дневнике: «К Шевич, спор с Самариным о искусстве и Кокореве…» (т. 48, с. 5). Толстой неоднократно бывал в гостях у Самарина в свой приезд к нему весной 1858 г. 5 апреля 1858 г. он записывает в дневнике: «Покупки, отправка садовника, завтрак у Самарина. Вечер у Киреевой; музыка, Сушковы, кн. Щербатова» (т. 48, с. 12). 8 апреля 1858 г. Толстой, много общавшийся в это время с Чичериным, вместе с ним был у Самарина: «Укладывался. Пришел Чичерин. Делал покупки. Обедал дома. С Чичериным пошли к Самарину. Выпили. Ненужно. К Фету спать» (т. 48, с. 12).
Общение Толстого и Самарина, начатое в Москве, было продолжено в Самаре, куда писатель отправился на лечение. 12 мая 1862 г. в состоянии измождения от дел и проблем, а также от кашля, переживаний за здоровье, Толстой отправился на кумыс в Самарскую губернию. Утомление писателя было связано не с каким-либо конкретным происшествием, но с целой чередой сложностей, а одновременно и плохо продвигавшихся дел, требовавших его внимания. «Хомуты», хозяйственный, школьный, журнальный, посреднический – т. е. обязанности, о которых Толстой с удовольствием писал А. А. Толстой 12–14 мая 1861 г. (т. 60, с. 389), начали его серьезно придавливать. Неуверенность в выборе спутницы жизни, ссора с Тургеневым, постоянное нездоровье, неудачи с журналом, а в начале 1862 г. – проигрыш в карты крупной суммы и взятые на себя обязательства по предоставлению М. Н. Каткову нового романа тяготили писателя. 27 мая 1862 г. Толстой писал Т. А. Ергольской о своей поездке: «Я нынче еду из Самары за 130 верст в Каралык, – Николаевского уезда. Адрес мой – в Самару, Юрию Федоровичу Самарину, для передачи Л. Н. Т. Путешествие я сделал прекрасное, место мне очень нравится, здоровье лучше, т. е. меньше кашляю» (т. 60, с. 427). Насколько можно судить по последующей переписке, Толстой в Самаре или останавливался у Самарина, или, по всей видимости, неоднократно виделся с ним, а накануне отъезда писатель просил последнего получать всю его корреспонденцию и по необходимости выслать ему нужные для обустройства и проживания вещи, которые могут потребоваться в месте его временного проживания, – Толстой решил отправиться в уже знакомое ему с. Каралык на берегу одноименной реки.
Первое письмо Самарина не было опубликовано до этого времени, в автографе письма датировка отсутствует . Однако по начальным вопросам Самарина в адрес Толстого можно понять, что это именно первое его послание, которому не предшествовало писем Толстого из Каралыка. Приводим письмо полностью – оно публикуется по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей Государственного музея им. Л. Н. Толстого:
19–25 июня 1862 г. Самара
Любезнейший граф, что с Вами сделалось? Или Вы до такой степени одичали, что уж не хотите и перо взять в руки? Я всё ждал от Вас уведомления о приискании Вами приличной усадебной оседлости, ждал адреса, но до сих пор от Вас ни строчки.
На днях я принес с почты два письма на Ваше имя. Теперь посылаю их почти наугад через удельные и казенные волостные правления. Пропасть они не могут, но дойдут ли, отыщут ли Вас – неизвестно.
Брат привез мне из Москвы дурное известие. Систематическая вражда против «Дня» Валуева, немцев и многих других, им же имя легион, подбитая дряблой уступчивостью Головнина, восторжествовала.
Аксаков лишен по Высочайшему повелению редакторства. Он ищет подставного редактора и вошел в соглашение с Чижовым. Я ему писал по телеграфу, чтобы он просил о передаче газеты на мое имя. Вся эта история сопровождалась прекурьезными обстоятельствами. Именем Государя и на основании данной присяги от Аксакова требовали, чтоб он назвал автора какой-то статьи, которую ему прислали, взявши с него слово автора не называть.
После этого удивляются, что проповедь неверия и непризнания властей идет успешно. Невольно приходит на ум латинская поговорка: quos vult perdere dementat.
Душевно преданный
Юрий Самарин 2
По нашему мнению, с точностью до недели письмо можно датировать 19–25 июня 1862 г. 16 июня 1862 г. Самарин сообщал в письме И. С. Аксакову, что от приезжавшего брата он узнал все новости по поводу газеты «День». Самарин показывает в письме, что такое отношение к «Дню» является законным продолжением проводимой государственной политики: «Всё идет по-прежнему. “День” запретят, а “Слово” и “Современник” будут продолжать свое дело». В этом письме от 16 июня Самарин предложил Аксакову свою кандидатуру в качестве редактора: «Право быть подставным редактором я удерживаю за собой. Научи, как это сде- лать. Всего лучше будет, если ты пришлешь мне готовую просьбу к подписанию» [Переписка…, 2016, с. 126].
В тексте письма Толстому Самарин указывает на тот факт, что он уже написал письмо И. С. Аксакову по телеграфу с уведомлением о готовности принять на себя официально обязанности главного редактора газеты «День»: «Я ему писал по телеграфу, чтобы он просил о передаче газеты на мое имя». Самарин отправил И. С. Аксакову, как он сам отметил, «официально-церемонное письмо» с просьбой передать ему газету и уверением в собственной готовности принять всю ответственность за издание, а также небольшое личное послание, в котором показывал абсурдность предложения на роль главного редактора Ф. И. Чижова. В связи с тем, что письмо Самарина к И. С. Аксакову датировано 19 июня 1862 г., рассматриваемое нами письмо Самарина к Толстому не могло быть написано ранее. Таким образом, получается, что Толстой, уехав из Самары, не писал Самарину в течение приблизительно трех недель, не ставил его в известность о своем местонахождении.
Примечательно, что письмо Самарина начинается с ряда вопросов. По всей видимости, Самарин был обеспокоен «молчанием» Толстого, однако тон переживания, звучащий в первом предложении, компенсируется шуткой, присутствующей во втором. В третьем предложении письма Самарин не оставляет своего шутливого тона, обыгрывая одно из самых актуальных для него понятий: «Я всё ждал от Вас уведомления о приискании Вами приличной усадебной оседлости , ждал адреса, но до сих пор от Вас ни строчки» (курсив наш. - В. А., Л. К. ). Самарин применяет к описанию места проживания Толстого в Самарских степях понятие «усадебной оседлости» – одно из ключевых в трудах Самарина и документах при подготовке реформы 1861 г. Усадебная оседлость стала камнем преткновения и в Самарском губернском комитете по улучшению быта помещичьих крестьян, в который входил Самарин.
Ю. С. Посталюк отмечает, что «определение усадебной оседлости крестьян обсуждалось в шести заседаниях Самарского комитета с 19 по 31 ноября 1858 г.», а «Проект главы IV Положения об улучшении быта помещичьих крестьян Самарской губернии был разработан… губернским предводителем дворянства А. Н. Чемодуровым совместно с членами комитета Ю. Ф. Самариным, А. И. Сосновским, А. Д. Лазаревым, И. Д. Лазаревым, Д. Н. Рычковым, Н. Л. Мухановым». Исследователь пишет, что «определение усадебной оседлости, предложенное в проекте главы IV, не было принято членами комитета» из-за серьезных разногласий между ними о том, что должно входить в состав усадебной оседлости [Посталюк, 2012, с. 929–930]. Можно предположить, что во время пребывания Толстого у Самарина в Самаре, тот делился с ним сложностями по поводу обсуждения понятия «усадебная оседлость», оказавшегося наиболее спорным в ряде важных заседаний.
Также в письме Самарин сообщает о получении им двух писем на адрес Толстого: это была часть договоренности товарищей. Не зная местоположения Толстого, Самарин не мог отправить эти письма с конкретным посланным, поэтому он сообщает, что высылает их наугад «через удельные и казенные волостные правления».
Следующая часть письма Самарина касается московских новостей, которые привез ему младший брат Дмитрий Федорович Самарин (1831–1901) – писатель, гласный Московского земства, сотрудник изданий И. С. Аксакова и «Московских ведомостей». Самарин сообщает Толстому новости по поводу газеты «День» и сразу же характеризует эти новости как «дурные». Рассказывая о тех постоянных трудностях, которые приходилось выдерживать редакции газеты «День» и И. С. Аксакову, Самарин использует в письме лаконичную конструкцию официально-делового стиля: «Систематическая вражда против “Дня” Валуева, немцев и многих других, им же имя легион, подбитая дряблой уступчивостью Головнина, восторжествовала» 3. По всей видимости, эта формулировка появилась у Самарина несколько неосоз- нанно. Она не была «сконструирована» им с какой-либо целью, но воспоминания о ряде лиц, от которых зависела участь издания и в целом деятельность в области просвещения, побудили Самарина прибегнуть к такой форме предложения. О деятельности П. А. Валуева и А. В. Головнина Самарину регулярно сообщал И. С. Аксаков. Так, в письме от 21–22 июня 1862 г. он писал: «Валуев очень ревностно занимается ревизией журналов и газет и посылает каждонедельно Головнину короб замечаний, который Головнин печатает и рассылает Цензурным комитетам и цензорам!.. [Переписка…, 2016, с. 137].
Д. А. Бадалян с привлечением переписки участников конфликта и многочисленных документов выстраивает последовательность всех событий от того момента, как 2 июня 1862 г. был выпущен в свет № 34 газеты «День», а ее редакторство приостановлено по распоряжению императора Александра II в связи с тем, что И. С. Аксаков отказался объявить, кто является автором «Очерка местного городского православного духовенства из одного провинциального города Западной России», опубликованного в № 31 газеты «День». Д. А. Бадалян иллюстрирует негативное отношение П. А. Валуева к Аксакову и его изданию, цитируя яркое письмо Н. С. Соханской: «Валуев вас терпеть не может, соединяя в своем чувстве и вас лично, и “День” литературно, – говоря, что он не может быть покоен с вашим “Днем”» [Бадалян, 2015, с. 318].
Умелый оратор и публицист Самарин буквально в нескольких предложениях краткого письма передает Толстому всю ситуацию с главным редактором газеты «День»: Аксаков предложил номинально занять место главного редактора издания своему другу Ф. В. Чижову, который безоговорочно согласился на такой ход, но он сам оказался в немилости у правительства, кроме того, Чижов был обременен изданиями – выпускал журнал «Вестник промышленности», а с 1860 г. газету «Акционер». Самарин уже в первом письме к Аксакову после известия о приостановке выпуска газеты «День» писал, что Чижов является не лучшей кандидатурой на роль главного редактора и предлагал свою кандидатуру, о чем он очень кратко рассказывает в данном письме Толстому.
Самарин, сочувствовавший Аксакову и разделявший взгляды славянофилов, завершает письмо к Толстому как истинный представитель официальной власти: «После этого удивляются, что проповедь неверия и непризнания властей идет успешно». Использованная им в финале «латинская поговорка» «quos vult perdere dementat» полностью звучащая так: «Quos vult perdere Jupiter, dementat prius» («Кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума»), иллюстрирует, что, несмотря на все сложности и присутствие во властных структурах людей, по мнению Самарина, не понимавших правильного вектора движения, в общем управлении страной и будущем ее развитии неизбежно должны восторжествовать разумные начала, причем торжество их не может наступить для России без Божественного произволения. Примечательно, что эту же крылатую фразу в сокращенном варианте Самарин употребит и в письме к И. С. Аксакову от 5 июля 1862 г.: «Если б мы имели свободу книгопечатания, какую бы можно было устроить батарею против “Современника”, “Слова” и всей базаровщины! Но они этого не поймут никогда. Сквозь тучу сгущенных недоразумений никогда не проникнет ни один луч. Quos vult perdere dementat» [Переписка…, 2016, с. 140].
В нашем распоряжении далее находится следующее (согласно произведенной нами датировке) письмо Самарина к Толстому – очень краткое и лаконичное, извещающее о прибытии посланного от писателя и собственно сообщающее об отсутствии у Самарина возможности (не по его вине) написать более пространное и содержательное послание. Вновь в данном письме авторская датировка отсутствует, письмо датировано нами:
20 июня – конец июня 1862 г. Самара
Сейчас неожиданно явился ваш посланный. – Он приехал на два часа.
Постараюсь всё закупить, но угля достать нельзя; в городе его нет продажного; надобно бы послать за город, а посланный не едет. Не нужно ли книг, газет или чего другого?
Ю. Самарин
Мой адрес:
дом Овсянникова на Вознесенской 4
С точностью до двух недель письмо можно датировать 20 июня – концом июня 1862 г. В связи с тем, что Самарин не получал писем Толстого до 19 июня и сам отправил ему послание первым в этот день, данное письмо, являющееся ответом на записку Толстого, отправленную с посланным, может быть датировано уже 20 июня и позднее. Вполне вероятно, что Толстой отправил посланного к Самарину, еще не получив его письма от 19–25 июня 1862 г. Кроме того, не случайно Самарин пишет о неожиданности появления посланного – это значит, что он мог приехать буквально сразу после отправки письма Самарина Толстому: в этот же день, на следующий день или через несколько дней. В связи с отсутствием какого-либо почтового сообщения, корреспонденция отправлялась Толстым и Самариным с посланными или нарочными: насколько можно судить по сохранившимся письмам, почти всегда Толстой отправлял посланного с письмом и просьбами к Самарину, который отправлял того же посланного назад с вещами и посланием. Судя по ответу Самарина об угле и его вопросе о печатных изданиях, Толстой делал акцент в своем письме именно на необходимых вещах, которые просил приобрести Самарина.
Письмо Толстого Самарину из Каралыка, начинающееся словами «Первобытность первобытностью…», опубликовано в 90-м томе полного собрания сочинений Толстого. На письме стоит авторская дата 1 июля, а редакторы указывают год «по почерку и на том основании, что письмо Толстой отправил с посланным в Самару, где в то время находился Ю. Ф. Самарин» (т. 90, с. 225–226). Первая фраза письма: «Первобытность первобытностью, а, признаюсь, мучаюсь нетерпением получить письма и журналы» является своеобразным ироничным ответом писателя на вопрос Самарина в письме от 19–25 июня 1862 г.: «Или Вы до такой степени одичали, что уж не хотите и перо взять в руки?». Кроме того, письмо можно датировать 1862 г. и по содержанию: не только по его связи с предыдущими письмами, но и по упоминанию определенных фактических данных. Так, в письме Толстой спрашивает: «Не приехал ли Замятнин?» (т. 90, с. 226). Н. А. Замятнин (1824–1868) – российский государственный деятель, в 1862–1863 гг. самарский губернатор. Замятнин был товарищем председателя уголовной палаты гражданского суда в Рязани и Туле; 11 мая 1862 г. назначен исполняющим должность самарского губернатора вместо Арцимовича, 18 мая утвержден в должности. Он прибыл в Самару 7 июля 1862 г. и вступил в должность. Вполне вероятно, что Толстой знал Замятнина еще по Туле. 12 июля 1862 г. Самарин писал в ответ на послание А. В. Головнина, извещающее о назначении Самарина главным редактором «Дня» и неформальном указании на необходимость появления в столице: «Я с радостью приехал бы немедленно в Петербург; но в настоящую минуту не решаюсь отлучиться вот почему: к нам приехал новый губернатор Замятнин» [Бадалян, 2015, с. 331].
В заключении письма Толстой благодарит Самарина за хлопоты и значительную помощь в предоставлении необходимых ему в быту вещей – все заказы Толстого исполнялись Самариным неукоснительно, всё необходимое пересылалось писателю. На небольшое послание Толстого, отправленное с посланным, Самарин ответил сразу же, в день его получения. По всей видимости, он был даже несколько удивлен и обескуражен настойчивостью посланного от Толстого человека, заявившего о своем скором необходимом отъезде, – Самарин даже подчеркнул слово «должен». В связи с этим он не смог ответить Толстому целостно и обстоятельно:
-
3 июля 1862 г. Самара.
Ваш посланный сейчас ко мне явился и объявил, что должен ехать через 10 минут. Посылаю Вам что набралось. Отвечать теперь решительно нельзя. О молоканах нужно справиться. Известия из Петербурга скверные, во всех отношениях.
Все Ваши поручения исполнены, всё высылается.
Сверх того газеты и множество писем.
Душевно преданный
Юрий Самарин 3 июля 5 .
Характер замечаний Самарина во многом определяется письмом Толстого от 1 июля 1862 г. Кроме того, Самарин указывает в письме на скверные новости: дело в том, что 3 июля, в день отправки Толстому с посланным этого краткого письма, Самарин еще не получил из Петербурга послания от А. В. Головнина, в котором последний заявлял о своей поддержке, поэтому общую ситуацию в этом кратком письме к Толстому Самарин оценивает как неблагоприятную: он сам и многие его знакомые считали, что препятствием к утверждению Самарина редактором московской газеты может быть его служба в Самаре.
В 20-х числах июля 1862 г. Толстой уже вернулся в Москву. Здоровье писателя приходило в норму, а мысли сразу по приезде были отвлечены негодованием по поводу обыска, произошедшего в Ясной Поляне. В письме А. А. Толстой от 22–23 июля 1862 г. он писал, отмечая близость А. А. Толстой к властным структурам и свою от них удаленность: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех…» (т. 60, с. 428). После возвращения из Самары Толстой вполне мог разуметь, что таким другом он сможет считать Самарина. Не случайно в его письме А. А. Толстой встречается указание на «равнодушие к теперешним либералам», а также ироничное замечание в духе Самарина: «Вот как делает себе друзей правительство» (т. 60, с. 428).
Занятый устройством семьи, вниманием к жене и детям, хозяйством в Ясной Поляне, началом работы над новым произведением, Толстой фактически не виделся с Самариным. Однако многие мысли и убеждения Самарина и, шире, славянофилов, их взгляды на историю, личность и народ в это время были Толстому очень близки. Ю. В. Лебедев показал, что «есть все основания полагать, что в процессе работы над “Войной и миром” Толстой испытывал влияние работ А. С. Хомякова» [Лебедев, 2021, с. 93]. Самарин во многом наследовал отдельные взгляды Хомякова, считал его одним из выдающихся мыслителей-славянофилов. С. И. Скороходова справедливо отмечает, что Хомяков и Самарин очень много сделали для появления завершенной славянофильской концепции: значительной заслугой Хомякова является разработка философии религии, а заслугой Самарина – развитие основ политической философии [Скороходова, 2017, с. 16]. Толстому не была близка идея славянского единения – одна из центральных у славянофилов, однако в момент работы над «Войной и миром» писатель основывался на ключевых позициях философии истории Хомякова и Самарина: «Самарин так же, как и Хомяков, полагал, что только цельное познание, в единстве всех сил духа, способно проникнуть в смысл исторических процессов» [Там же, с. 17].
У Толстого появляется потребность разговоров с Самариным на исторические и политические темы для укрепления собственной концепции и уверения в ее справедливости. Летом 1867 г. Толстой несколько раз встречается с Самариным и рядом историков и общественных деятелей, советуясь с ними по поводу отдельных исторических глав «Войны и мира». В письмах к С. А. Толстой писатель констатирует, что из всех консультантов ближе и дороже всего ему именно Самарин. Письмо от 20 июня 1867 г.: «Из типографии поехал к Самарину и проговорил с ним часа три, и еще более полюбил его, и уверен в том же с его стороны…» (т. 83, с. 143). Письмо от 21 июня 1867 г.: «После приезда Кузминского приехал Самарин и задержал меня часа два…» (т. 83, с. 146). Особенное отношение Толстого к Самарину вполне объяснимо: общаясь с историками, он находил во всех исключительно специалистов, а в Самарине видел не только умного человека, философа и историка, но и друга. Толстовская фраза «и еще более полюбил его, и уверен в том же с его стороны» в отношении Самарина становится полностью понятна после осмысления письма Толстого к Самарину от 10 января 1867 г., которое было написано, но не отправлено.
Это письмо сохранилось в архиве Толстого. Впервые оно было опубликовано в журнале «Печать и революция» (1928, № 6) а позднее в юбилейном полном собрании сочинений Толстого (т. 61, с. 156–159). В этом искреннем и откровенном послании Толстой называет Самарина одним из самых близких себе людей: «Не знаю, как и отчего это сделалось, но вы мне так близки в мире нравственном – умственном, как ни один человек» (т. 61, с. 156). Далее Толстой пишет о своей идейной близости к Самарину, говорит о собственном духовном и умственном одиночестве, необходимости поддержки и совета: «И я ищу помощи и почему-то невольно один вы всегда представляетесь мне» (т. 61, с. 157). В письме Толстого заявлена мысль о необходимости в друге, понимающем, умном союзнике и грамотном советчике, с высоты жизненного опыта, мудрости и знаний готовом подсказать писателю верное направление в жизненной путанице.
Не исключено, что написанное послание просто ожидало часа своей отправки, а Толстой хотел увериться, что все-таки может рассчитывать на дружбу Самарина, не столкнется с непониманием и холодностью. Несмотря на теплое общение и взаимодействие с Самариным летом 1867 г., писатель все-таки не отправил этого письма: по всей видимости, у Толстого были какие-то сомнения, о которых он не писал С. А. Толстой, или он оставлял еще некоторое время на «проверку» отношений с Самариным. На самом деле, Толстой правильно ощущал некоторую удаленность, закрытость Самарина. Насколько можно судить по переписке Самарина с И. С. Аксаковым, в частности по их письмам о возможном редакторе газеты «Дело», ни Самарин, ни Аксаков в 1862 г. Толстому полностью не доверяли. 5 июля Самарин писал Аксакову: «На днях я получил от Льва Толстого письмо из степи, где он пресыщается кумысом (речь идет о неизвестном нам сейчас письме. – В. А ., Л. К .). Он пишет мне: “Известие об Аксакове для меня очень грустно и важно. Ежели вы будете писать ему, скажите, что я тоже готов к его услугам”. Что он под этим разумеет – не знаю. Я спрошу его. Если откажут мне, не сойдешься ли ты с ним. Я не знаю, каковы ваши отношения, да и его самого я мало знаю» [Переписка…, 2016, с. 140]. И. С. Аксаков ответил Самарину вежливо, но однозначно. Он не считал Толстого человеком «своего лагеря»: «Льва Толстого очень благодарю, но, разумеется, согласиться на его предложение не могу. Я могу передать или человеку, принадлежащему к одному со мной лагерю, или же лицу, совершенно бесцветному, ничтожному в литературе. У меня в запасе есть еще Василий Елагин» [Там же, с. 149]. У нас нет серьезных оснований считать, что ситуация с отношением Самарина к Толстому изменилась в 1867 г., так как после встреч и общения в Самаре они в течение пяти лет общались мало.
Значительную часть неотправленного письма Толстого составляют также его рассуждения о государственной службе Самарина. Толстой пытается найти у Самарина ответы на два вопроса: о его участии в политической деятельности и о его религиозных убеждениях. Толстой был предельно внимателен к жизни и работе Самарина, следил за его продвижением, читал его выступления. Однако писатель приходил к выводу, что при всем успехе Самарина его деятельность государственного служащего во многом бесполезна, что на нее можно было бы тратить гораздо меньше усилий: «Земство, мировые суды, война или не война и т. п. – всё это проявление организма общественного – роевого (как у пчел), на это всякая пчела годится и даже лучше те, которые сами не знают, что и зачем делают…» (т. 61, с. 158). По мнению Толстого, в государственной деятельности чиновника любого уровня нет произвола и Самарин попросту губил свой талант, выполняя дело тех людей, которые могли бы с сознанием исполненного долга, но не вдумываясь, совершать подобную же работу со сходными результатами: «Пускай клячи ходят на этом рушительном колесе, но вы ходите в этом колесе сознательно, вы, как добрый скакун, которой бы мог свободно скакать по полям, стали на колесо...» (т. 61, с. 158). Государственное управление, которое всегда было для Самарина одной из важнейших сторон жизни, Толстой считал не зависящим от поступков и надежд отдельных людей. Между тем, как справедливо отметил Ю. С. Пивоваров, Самарин сам вручал государству мандат на преобразование общественных основ [Пивоваров, 2021, с. 19]. Расхождение Толстого и Самарина хорошо ощущается в представлении о свободе человека, живущего в государстве: Толстой в это время считал личность свободной в выборе следования общественно-политическим векторам, Самарин же видел жизнь человека, особенно государственного деятеля, четко встроенной в определенную концепцию управления. В сознании Толстого, день ото дня все чаще сталкивавшегося с произволом властей, постепенно зарождалась идея о необходимости защиты личности от государственного и властного произвола. Самарин думал иначе: он пытался уберечь от необдуманных действий и слов людей сам монархический строй. Вопрос Толстого о религиозных убеждениях Самарина гораздо более краток. Писателю, по всей видимости, было очень важно понимать, как в данном случае мыслит его друг: Высшая воля, Бог или Провидение находились в это время в центре концепции самого Толстого, считавшего одной из важнейших задач человека реализацию этой воли.
Примечательно, что Толстой достаточно высоко оценивал возможности дружеского и творческого союза с Самариным, фактически отмечая, что их сотрудничество могло бы быть максимально полезным окружающим людям: «Не знаю, как и отчего, но я много жду не для одних нас от нашего такого умственного сближения» (т. 61, с. 158). В самом послании указана еще одна возможная причина того, что письмо Самарину не было отправлено Толстым: писатель отмечал, что при условии отсутствия взаимности со стороны Самарина ему будет несколько совестно с ним встречаться.
Однако по мере течения времени Толстой все больше идейно удалялся от Самарина, который оставался ему важен как историк. Два года спустя после написания своего неотправленного письма Самарину, 18 января 1869 г., Толстой сообщал жене о некотором своем разочаровании в гипотетическом друге: «Исторические мысли мои поразили очень Юрьева и Урусова и очень оценены ими; но с Самариным, вовлекшись в другой философский спор, и не успели поговорить об этом. Я несколько разочаровался в нем» (т. 83, с. 160). Писатель продолжал считать своего знаменитого современника человеком светлого ума, огромной эрудиции, но не другом, с которым можно обсуждать все, что угодно. В письме С. А. Толстой от 2–4 марта 1874 г. Толстой сообщал, что будет читать свой новый роман у Сушковых, «если привезет туда Самарина» (т. 83, с. 215). А 6 марта 1874 г. Толстой писал Н. Н. Страхову о том, что «прочел несколько глав дочери Тютчева и Ю. Самарину»: «Я выбрал их обоих, как людей очень холодных, умных и тонких…» (т. 62, с. 71).
Если отношение Самарина к власти было приблизительно понятно Толстому – он образно описал выбор Самарина между хождением в замкнутом круге и свободной прогулкой по полям (не в пользу последней), то вопрос с религиозными взглядами Самарина так и остался для Толстого не проясненным. Примечательно, что через два месяца после смерти Самарина, 17–18 мая 1876 г., Толстой писал о нем Н. Н. Страхову – человеку, ставшему для писателя одним из самых близких людей – фактически занявшему то место, на которое когда-то Толстой хотел поставить Самарина: «На днях П. Самарин был у меня и читал мне немецкую статью брата своего Юрия о религии. Вы прочтете ее в Православном обозрении, пожалуйста, напишите мне свое мнение. В ней хорошо доказательство, основанное на воздействии Бога на человека (хотя гегелиянское) и на важности, которую человек приписывает своей личности» (т. 62, с. 276). Статья Ю. Ф. Самарина «Из посмертных сочинений Ю. Ф. Самарина. Два письма об основных истинах религии, по поводу сочинений Макса Мюллера: “Введение в сравнительное изучение религий” и “Опыты по истории религий”» была помещена в первом номере журнала «Православное обозрение» за 1878 г.
Остается добавить, что после смерти Самарина Толстой неоднократно вспоминал о нем, причем нередко во время важных и значимых рассуждений о себе, собственном выборе. К примеру, 10 июля 1903 г. писатель отметил в дневнике: «Я очень дурной по свойствам человек, очень туп к добру, и потому мне необходимы большие усилия, чтобы не быть совсем мерзавцем. Как Юрий Самарин как-то очень хорошо сказал, что он – прекрасный учитель математики, потому что очень туп к математике. Я – совершенно то же в математике, но я, главное, то же в деле добра – очень туп, и потому не совсем дурной, – нет, смело скажу: хороший учитель» (т. 54, с. 181).
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что при всей краткости общения Толстого и Самарина их творческое и личностное взаимодействие было продуктивным и результативным. Несмотря на то что Толстой не смог найти в Самарине лучшего друга, как этого ему очень хотелось в начале 1860-х гг., именно благодаря общению с ним он глубоко осмыслил неоднозначность и сложность ряда убеждений славянофилов в их применении к реальной жизни. Сохранившаяся переписка Толстого и Самарина, часть писем из которой впервые опубликована в данной статье, позволила нам сделать важные выводы о человеческом общении двух корреспондентов, их взаимодействии с рядом известных современников и влиянии на общественную жизнь России середины XIX в.
Список литературы Переписка Л. Н. Толстого и Ю. Ф. Самарина: новые контексты и проблемы взаимоотношений двух современников
- Андреева В. Г. «Любезный друг… не сердись за откровенность!»: переписка Л. Н. Толстого и Б. Н. Чичерина // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 1. С. 54-83. https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-1-54-83
- Бадалян Д. А. Письма и документы Ю. Ф. Самарина и А. В. Головнина о возобновлении издания газеты «День» (июнь - октябрь 1862 г.) // Цензура в России: история и современность. СПб., 2015. Вып. 7. С. 308-345.
- Кавацца А. Л. Н. Толстой и А. С. Хомяков // Хомяковский сборник. Томск, 1998. Т. 1. С. 303-325.
- Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 1. 495 с.
- Лебедев Ю. В. А. С. Хомяков и «мысль народная» в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2021. № 6 (1). С. 91-97. https://doi.org/10.20339/PhS.6-21.091
- Матвеева И. Ю. Влияние философии славянофилов на концепцию семьи и народной религиозности в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» // Византия, Европа, Россия: Социальные практики и взаимосвязь духовных традиций. СПб.: РХГА, 2022. С. 52-65.
- Можарова М. А. «Грамота, процесс чтения и писания, вреден»: Л. Н. Толстой и К. С. Аксаков в споре о книгах для народа // Библиотековедение. 2012. № 5. С. 56-61.
- Можарова М. А. Л. Н. Толстой и славянофилы в литературных спорах 1850-х годов // Духовно-нравственный и эстетический потенциал русской литературной классики. М.: МГОУ, 2013. С. 209-214.
- Можарова М. А. Ю. Ф. Самарин и Л. Н. Толстой в литературно-эстетическом контексте эпохи // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). С. 165-176. https://doi.org/10.24411/2588-0276-2020-10009
- Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина (1848-1876). СПб.: Пушкинский Дом, 2016. 707 с.
- Пивоваров Ю. С. Юрий Самарин и наше время // Труды по Россиеведению. 2021. № 8. С. 15-29.
- Посталюк Ю. С. Рассмотрение вопроса об усадебной оседлости крестьян в Самарском губернском комитете по улучшению быта помещичьих крестьян // Изв. ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 27. С. 929-932.
- Самарин Ю. Ф. Собр. соч.: В 12 т. М.: Тип. А. И. Мамонтова и К, 1877. Т. 1; 1878. Т. 2; 1885. Т. 3.
- Сапченко Л. А. Сюжетно-композиционная организация тексте в автобиографической прозе С. Т. Аксакова и Л. Н. Толстого // Наследие семьи Аксаковых в литературно-эстетическом контексте цифровой эпохи / Под ред. Т. В. Бакиной. Самара, 2020. С. 84-93.
- Скороходова С. И. К вопросу о некоторых философско-исторических аспектах творчества А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина // Проблемы современного образования. 2017. № 1. С. 15-23.
- Чичерин Б. Н. Воспоминания: В 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. Т. 1. 496 с.; Т. 2. 528 с.
- Шпагин С. А. Славянофилы глазами Л. Н. Толстого // А. С. Хомяков: личность - творчество - наследие. Хмелитский сборник. Смоленск, 2004. Вып. 7. С. 262-273.
- Юнусов И. Ш. Славянофилы и Л. Толстой: «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» К. Аксакова и «Утро помещика» и «Казаки» Л. Толстого // Вестник Вят. гос. ун-та. 2014. № 2. С. 81-85.