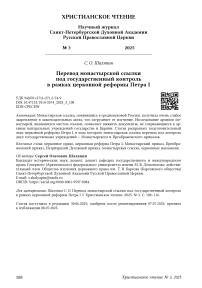Перевод монастырской ссылки под государственный контроль в рамках церковной реформы Петра I
Автор: Шаляпин С.О.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Монастырская ссылка, появившись в средневековой России, получила очень слабое закрепление в законодательных актах, что затрудняет ее изучение. Исследование архивов монастырей, являвшихся местом ссылки, позволяет выявить документы, не сохранившиеся в архивах центральных учреждений государства и Церкви. Статья раскрывает подготовительный этап церковной реформы Петра I, в ходе которого монастырская ссылка перешла под контроль двух государственных учреждений — Монастырского и Преображенского приказов.
Церковное право, церковная реформа Петра I, Монастырский приказ, Преображенский приказ, Патриарший Духовный приказ, монастырская ссылка, церковные наказания
Короткий адрес: https://sciup.org/140312296
IDR: 140312296 | УДК: 94(470+571)+271.2-74-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_108
Текст научной статьи Перевод монастырской ссылки под государственный контроль в рамках церковной реформы Петра I
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.3
Sergey O. Shalyapin
Transfer of Monastery Exile Under State Control as Part of Church Reform of Peter I

UDK 94(470+571)+271.2-74-9
EDN CPECEW
Монастырская ссылка в отечественном праве и судебно-карательной практике занимала весьма важное место по крайней мере с XVI до XVIII вв. Родившись, очевидно, из покаянной традиции церковного права, с глубокой древности допускавшей прохождение епитимьи в суровой изоляции дальнего монастыря, под строгим руководством опытного «начального» старца над «подначальным» грешником, монастырская ссылка в понимании позднего русского Средневековья по ряду причин трансформировалась в уникальный по природе вид наказания, которое использовалось как по традиционному покаянному назначению, так и по карательным мотивам, укоренившимся в правовых актах государства. Как более ста двадцати лет назад отметил Ардалион Попов, пытаясь определить природу монастырской ссылки в ряду церковных наказаний, она есть «до некоторой стороны обмирщенная церковная дисциплина», которая «в применении к религиозным преступлениям подчеркивала их криминальный характер, затушевывала их противоцерковность и создавала удобную почву к изъятию некоторых преступлений из сферы церковной компетенции в сферу компетенции уголовной» [Попов, 1904, 85]. Однако предметом нашей статьи не является вопрос, как монастырская ссылка вошла в число пенитенциарных механизмов, используемых и в церковной, и в государственной юрисдикции. Эта сложная проблема уже частично рассматривалась нами ранее [Шаляпин, 2013] и, как представляется, достойна отдельного изложения. Здесь же делается попытка найти хронологическую и законодательную границу, за которой монастырское заточение встало под полный государственный контроль, сохранивший за институтами Церкви лишь роль исполнителя наказания и увещевателя страждущего преступника.
Именно такая роль Синода, епархиальных консисторий, монастырских властей — исполнителей воли государства, заменявшего по разным причинам смертную казнь, каторгу или ссылку заточением в монастыри, породила в нач. XX в. хорошо известную литературу, адресовавшую в большей мере не Церкви, а верховной государственной власти требование незамедлительной ликвидации монастырской тюрьмы как учреждения, несовместимого с новым либеральным законодательством и дискредитирующего сами монастыри, использовавшиеся по традиции как тюрьмы (в то время уже очень немногочисленные) (см. об этом, напр.: [Пругавин, 1904; Пру-гавин, 1905; Prugavin, 1905; Пругавин, 1906; Мельгунов, 1907; Колчин, 1908; Пругавин, 1909; Оларт, 1912]). Пожалуй, та же литература, обрисовывавшая в самых мрачных тонах отдельные сюжеты истории монастырской ссылки и не рассматривавшая этапов эволюции, причин и природы этого явления целиком, не вдававшаяся глубоко в правовую сторону вопроса, все еще определяет наше общее представление о практике заточения в русские монастыри. Крайне немногочисленны, и в прошлом, и сегодня, исследования монастырской ссылки, поскольку законодательство разных эпох касается ее лишь вскользь, не предоставляя правоведам весомых нормативных формулировок для системного суждения об этой практике. Так, исследуя виды наказаний, закрепленные фундаментальным сводом русского средневекового права — Соборным уложением, Н. Д. Сергеевский отметил, что «отсылка под начал именно в монастырь Уложением не назначается. Но в практике случаи этого рода встречаются довольно часто... При этом нельзя не заметить, что сфера применения монастырского подначальства не поддается, по тексту сохранившихся памятников [права], сколько-нибудь точному определению» [Сергеевский, 1887, 288-289]. Редкость и казуальность нормативных актов о монастырской ссылке делают единственно доступным методом ее комплексного изучения рассмотрение и обобщение практики такого заточения в отдельные монастыри, чьи архивы сохранили основной объем информации о причинах и формах монастырского «подначальства», о видах преступлений и проступков, за которые оно назначалось, и, наконец, об учреждениях, в чьей компетенции находилось право использования и регулирование пенитенциарной деятельности монастырей.
Мы намеренно вынесем за скобки данной статьи разрозненные факты вмешательства государства в наказующую деятельность Церкви на ранних этапах формирования церковно-государственных отношений в России. По всей видимости, активное
«обмирщение» (по терминологии А. Попова) системы церковных наказаний активизировалось в период экстремального террора опричнины и Смутного времени, когда церковная власть утратила возможность вести себя с уверенной независимостью в отношениях с государственной властью. Исследование сохранившихся актов того времени наглядно демонстрирует, что заточение в монастырь (с насильственным постригом или без него) довольно быстро вошло в арсенал карательных и изоляционных мер, применяемых верховной властью. Нужно иметь в виду, что монастырская ссылка в государственном ее понимании была не только видом наказания, установленным законом и примененным судом, но и эффективным способом «опалы», т. е. удаления от двора, из политической жизни, из семьи монарха или боярина неугодных лиц, которые не подвергались суду и, следовательно, заключались в монастырь не с целью наказания, а с целью изоляции.
Видимо, в эпоху Смуты заточение в монастырь даже духовных лиц без ясно выраженной царской воли было невозможно, что указывает на появление значительного государственного контроля за системой монастырской ссылки уже в то время. Прямое указание на сложившуюся практику выдачи царского распоряжения для использования монастырской ссылки епархиальным архиереем находим в грамоте царя Михаила Федоровича Вологодскому и Великопермскому архиепископу Варлааму от 24 марта 1639 г., данной в ответ на жалобу архиерея о том, что приговоренные им к смирению в монастыре бродячие монахи и прочие «бесчинные старцы» помещены в обители его епархии быть не могут, ибо «игумены и строители и керари у тебя [архиепископа] тех бесчинных старцев для исправления в монастыри без нашего [царского] указу не емлют» [Прибавления, 1839, 329-330] 1 . Царю пришлось дать особое распоряжение, закрепленное грамотой к местному воеводе И. Волконскому, подтверждающее право архиепископа судить и наказывать монастырской ссылкой лиц духовного сословия, опираясь не на законодательство, а на нормы канонического права: «И мы, слушав твоей отписки, указали тебе таких бесчинных старцов унимать и смирять, то и дело твое… и ты б, богомолец наш, таких старцов бесчинников унимал и смирял, и делал бы по правилу Святых Отец и по своему святительскому рассмотрению, кто какой будет старец вины достоин; и в монастыри посылал, где кого годно» [Прибавления, 1839, 329–330]. Но даже возвращая право заточения духовных лиц в монастыри, фактически утраченное ранее, в руки архиерея, царь указывает на элемент светской традиции наказаний, по-видимому, к этому времени прочно вошедший и в практику монастырского «подначальства», — телесные наказания в целях устрашения: «и велел в монастырех смиряти монастырским смирением гораздо, чтобы иным, на то смотря, впредь плутать было так неповадно»2.
Отсутствие желания верховной власти сохранять фактически сложившийся в начале XVII в. полный контроль за монастырской ссылкой дало возможность использования этой меры наказания очень широким кругом властных субъектов. Так, по данным архива крупнейшего (по количеству известных в XVII в. «подначальных») места ссылки — Кирилло-Белозерского монастыря, грамоты о ссылке между 1619 и 1700 гг. в него поступали: непосредственно от царя и патриарха; из царских приказов — Панского, Большого дворца, Сибирского, Монастырского, Рейтарского, Посольского, Малороссийского, Дворцового судного, Разрядного, Поместного, Стрелецкого, Разбойного; из патриарших приказов — Разрядного, Судного, Казенного, Духовного; от ростовского митрополита и вологодского архиепископа (по принадлежности обители к Вологодской епархии). Разовые указы поступали от царевича Алексея Алексеевича и белозерского воеводы. В 1659–1666 гг. указы о ссылке поступали из патриарших приказов, но от имени царя Алексея Михайловича, что ситуативно могло означать временный возврат к абсолютному контролю государства за монастырской ссылкой.
Анализ состава акторов, наделенных полномочиями ссылки в Соловецкий монастырь, за тот же период позволяет добавить к приведенному выше списку только царские приказы Устюжской и Новгородской четвертей, Тайных дел; патриарший Дворцовый приказ; новгородского митрополита и холмогорского архиепископа (по принадлежности обители к Новгородской, затем к Холмогорской епархии) и суздальского епископа.
Наибольшее количество указов о ссылке в эти монастыри исходило от царя, патриарха, епархиальных архиереев (после отрешения патр. Никона), от приказов: Большого дворца, Монастырского и от патриаршего Разряда. Весьма редко встречаются грамоты воевод о ссылке кого-либо в монастырь, но из-за неполноты их формуляра можно предположить, что воеводы не сами инициировали ссылку, а лишь подтверждали грамоты, поступившие им из приказов. Сходные данные мы увидим и в архивах иных монастырей, сильно уступавших Кириллову и Соловецкому по количеству ссыльных, но получавших распоряжения из тех же инстанций. Таким образом, к последней трети XVII столетия монастырская ссылка регулировалась многими инстанциями и круг ссылаемых в обители лиц постоянно расширялся.
Ощутимый количественный рост числа монастырских ссыльных, особенно в связи с активизацией судебной деятельности епархиальных архиереев после отрешения патр. Никона и решений Собора 1666-1667 гг. о недопустимости суда над лицами духовного звания светскими чиновниками, накладывал на многие обители дополнительные трудности. В этот период мы нередко встречаем просьбы монастырей к высшей церковной власти сократить поток ссыльных. Так, в 1695 г. братия Спасо-Прилуцкого монастыря под Вологдой обращалась к патр. Адриану с челобитной не посылать из Москвы назначенного уже к ссылке в их монастырь старца Филарета. Ссылаясь на два прошлых неурожайных года и общее оскудение обители, они писали: «для таковой скудости не толко б, государь, таких излишних подначалных людей кормить, и сами мы, богомолцы твои, пронимаемся и питаемся с великою нуждею. Да сверх того, государь, от таких подначалных людей чинятца напрасные бедства» (НИОР РГБ. Ф. 29. № 112.1. Л. 648 об.). На практике такие просьбы редко находили понимание властей. Множественность судебных и административных инстанций приводила к тому, что ни в одной из них не было общей картины, сколько и где именно содержится монастырских ссыльных.
Тяжким бременем на обители легла и реализация инициированного и принятого царской властью репрессивного акта против раскольников — «Статей о расколщиках» 1686 г. Будучи утверждены царями Иоанном и Петром, царевной Софьей и Боярской думой, эти статьи стали первым общегосударственным законом, устанавливающим, в числе прочего, режим отбывания монастырской ссылки раскаявшимися старообрядцами, принесшими повиновение Церкви: «…и таких посылать в большия монастыри и держать их в тех монастырех под началы и в великом береженьи и за крепким караулом и давать им хлеба и воды по мере и приставливать к ним добрых и искусных старцев и велеть их приводить в церковь Божью ко всякой церковной службе и х3 келейному правилу и смотреть за ними со всяким прилежанием, каково тех противников к покаянию обращение и совершенно ль они церкви Божьей повиновение приносят, и нет ли в них какова лукавства, чтобы они лукавством своим и лестным обращением от заточения не отбывали, потому что они многие притворством своим и лукавым обращением выманивались и уходя из монастырей в иные места чинили противности горше перваго. И буде которые совершенно от той злобы отстанут и святей церкви приобщатца истинным намерением и чистою совестью и таких по подлинному свидетельству из под началов слобождать; и буде которые из них похотят постритьца и их постригать в тех же монастырех; а буде которые пострит-ца не похотят, а жен и детей у них нет и тем быть в тех же монастырех до кончины живота своего не исходно, чтобы они вышед из тех монастырей с прелестники в сообщении не учинились и на прежнюю злобу не обратились» [Судные процессы по делам церкви, 1882, 26].
Примечательно, что в «Статьях о расколщиках» законодатель полностью использовал древнюю форму монастырского «подначальства», существовавшую задолго до введения монастырской ссылки в светское законодательство. Получив возможность полностью регулировать монастырскую пенитенциарную деятельность в отношении раскольников, светский законодатель все же не имел намерения ставить знак равенства между государственной темницей и монастырем, осознавая несхожесть целей и режима этих двух учреждений. Гораздо более радикально и решительно в области «обмирщения» монастырской ссылки себя повел Петр, когда получил возможность приступить к собственной церковной реформе.
Недавно вопросы подготовки и раннего этапа реализации петровской реформы получили освещение в фундаментальной монографии, основанной на большом массиве ранее не введенных в научный оборот источников [Башнин, Устинова, Шамина, 2022]. И хотя вопросы церковного суда и связанных с ним наказаний затронуты в книге конспективно, авторы разворачивают перед читателем картину начатого Петром после смерти патр. Адриана стремительного разрушения системы патриарших приказов — традиционных институтов осуществления власти первоиерарха [Башнин, Устинова, Шамина, 2022, 98]. Первой жертвой начавшейся реформы пало главное судебное учреждение патриаршего аппарата — Разрядный приказ, о котором царем 10 декабря 1700 г. было постановлено: «Розряду не быть» (ПСЗ-I. Т. 4. № 1818. С. 87). Его функции были разделены между Поместным, Московским судным и вновь образуемыми Монастырским и Патриаршим Духовным приказами. Последнему были поручены «которые дела в Патриаршем приказе были, и впредь будут в расколе, и в каких противностях церкви Божией и в ересях» (ПСЗ-I. Т. 4. № 1818. С. 88). 7 ноября 1701 г. тому же приказу была вменена обязанность допрашивать лиц духовного сословия по разным делам, судопроизводство по которым велось в Московском Судном приказе (ПСЗ-I. Т. 4. № 1876. С. 176). В отношении образованного 24 января 1701 г. Монастырского приказа укоренилось мнение, сформулированное М. И. Горчаковым, что «Монастырскому приказу и в гражданских и в уголовных делах были подсуди-мы: все вообще лица его ведомства; в частности: духовные, без всякого исключения, все служилые люди в приказах, подчиненных ему, при архиерейских кафедрах и монастырях (стряпчие, дьяки и пр.), все крестьяне его ведомства, учители и ученики славяно-греко-латинских школ, нищие, богаделенные и содержащиеся на счет Приказа» [Горчаков, 1868, 197]. Мнение это исключает всякую самостоятельную юрисдикцию судов Патриаршего Духовного приказа и судов епархиальных архиереев, равно как и наивысшего государственного судилища — Преображенского приказа. На наш взгляд, ситуация с делением функций церковного суда между остатком патриаршей судебной машины — Духовным приказом, и государственными органами правосудия представляется сложнее. Монастырский приказ во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным претендовал на роль универсального сословного судебного учреждения. Но Петр был склонен избежать концентрации церковного правосудия в одном только Монастырском приказе, стремясь распылить былые судебные прерогативы Церкви между разными, порой конкурирующими институциями. Ослабление, стирание памяти о некогда едином и мощном юрисдикционном поле церковного суда виделось царю-реформатору гораздо большим приоритетом, нежели идея подмены власти клириков властью светских бюрократов в церковном суде.
В этой связи совершенно не второстепенным выглядел вопрос о церковных наказаниях. Если епитимийную практику Петру представлялось допустимым низвести до подобия светским наказаниям — что и было впоследствии закреплено в Духовном регламенте, где малое отлучение грешника сравнивалось с арестом [Духовный регламент, 1897, 39], — то монастырскую ссылку представлялось логичным ввести в рамки государственной карательной системы, но не превращать окончательно в банальную тюрьму. Для этого имелся ряд причин. Первая из них — это желание оставить в руках иерархии необходимый для поддержания внутрицерковного порядка дисциплинарный механизм, позволяющий подкреплять требования и веления Церкви, не обращаясь к излишне жестоким правовым практикам государства. Вторая причина, вероятно, крылась в общем представлении о несовершенстве системы формального права, не перекрывавшего значительный объем социально-вредных деяний, которые могли быть показательно пресечены не репрессивным законом, а методами более гибкого и нравоучительного церковного наказания.
Существовавшая к 1701 г. система монастырской ссылки выглядела прямым противоречием петровскому представлению о регулярности всего и вся в государстве. Монастыри, принимавшие ссыльных, были весьма различны по своим возможностям, а значит, и по условиям содержания ссыльных, степени их свободы внутри обители, возможности использовать увещевательную и покаянную практики в отношении узников. Путь к дальнейшему обмирщению и частичной унификации монастырской ссылки виделся Петру I в создании единой системы ее администрирования. Разрушение патриарших властных институций, способных, при известных усилиях, контролировать все монастыри, заставило искать механизм такого контроля вне Церкви.
До последнего времени никакого петровского акта, регламентирующего государственный контроль за монастырской ссылкой, науке известно не было. Нет такого акта в Полном собрании законов Российской империи, не упоминается он и в специальных исследованиях петровских церковных реформ. Но выше мы уже говорили, что наиболее плодотворным методом исследования монастырской ссылки является поиск важнейших актов в самих местах ссылки — архивных фондах монастырей. В фонде Кирилло-Белозерского монастыря нами были выявлены два акта: царская грамота из Монастырского приказа в Кирилло-Белозерский монастырь от 11 августа 1701 г. (РГАДА. Ф. 1441. Оп. 4. Д. 47) и грамота архиепископа Вологодского и Белозерского Гавриила в Кирилло-Белозерский монастырь от 28 августа 1701 г. (РГАДА. Ф. 1441. Оп. 4. Д. 48), излагающая содержание предыдущей грамоты, присланной архиерею из того же приказа. Позже в Центральном архиве Нижегородской области были выявлены два списка той же грамоты от 11 августа 1701г., адресованной в Нижегородский Печерский монастырь (ЦАНО. Ф. 579. Оп. 589. Д. 589), имеющие небольшие разночтения с кирилловским документом.
Все четыре текста излагают один и тот же указ царя Петра I от 31 июля 1701 г. относительно неисполнения в монастырях указов и грамот, данных из каких-либо учреждений, кроме Монастырского и Преображенского приказов, и о непринятии откуда-либо «подначал» (в ссылку), кроме Преображенского приказа. Применительно к практике монастырской ссылки данный акт означает, что ссыльных необходимо принимать непосредственно по грамотам Преображенского приказа, а из иных учреждений — только при наличии подтверждающего указа Монастырского приказа. Таким образом создавалась единая система управления монастырской ссылкой, замкнутая на одноименный приказ. Вне его влияния остались только особые государственные преступники, отсылаемые в монастыри из Преображенского приказа. Незадолго перед этим, в 1698–1700 гг., Преображенский приказ получил уникальный опыт распределения 1100 мятежных стрельцов по четырнадцати отдаленным монастырям, с последующим их перемещением в десяток московских и подмосковных обителей на период следствия и суда (см. об этом: [Шаляпин, 2022]). Перемещение такого огромного количества колодников по многим монастырям, организация их охраны и пропитания стали для Преображенского приказа ценным опытом, подтвердившим, что государственный контроль над церковно-пенитенциарной системой возможен и не слишком затратен для казны.
Тот факт, что указ был направлен одновременно в «большие» монастыри и епархиальным архиереям, которые, в свою очередь, тоже рассылали изложение данного акта во все обители, знаменовал внедрение новой системы рассылки монастырских ссыльных. Уже вскоре важные ссыльные станут направляться с приставами и солдатами в определенные монастыри, а менее значительные колодники — к архиерею с предписанием определить подначального в один из монастырей своей епархии. Новая система распределения ссыльных позволит на епархиальном уровне более гибко решить проблемы неравномерного распределения ссыльных. Но на первых порах Монастырскому приказу пришлось приложить некоторые усилия по перераспределению узников в крупных обителях. Пример такой работы находим в архиве того же Кирилло-Белозерского монастыря. 4 мая 1704 г. стряпчий Кирилловского подворья в Москве И. И. Поморцов писал в обитель архим. Сергию: «Да Господа ради пожалуй, прикажи учинить выписку в прошлых годех до 700-го году и с 700-го и с 701-го и с 702-го и с 703-го и нынешняго 704-го году ис Преображенского и ис приказу Болшаго дворца и из Розряду и из Монастырского и с Патриарша розряду и из Духовного приказу, так же и с Вологды от архиерея сколко в Кирилов монастырь подначалных монахов и белцов прислано, и учиня тое выписку прикажи государь прислать ко мне немедленно, потому что той выписки боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин у меня спрашивает, и хочет подначалных из монастыря убавить в ыные монастыри» (НИОР РГБ. Ф. 570. Карт. 1. Ед. хр. 32. Л. 1). Выписка была спешно подготовлена. По ней явилось, что в Кирилло-Белозерском монастыре в первые пять лет XVIII в. числилось 10 ссыльных (без учета присланных от вологодского архиепископа), присланных из самых разных приказов. Но все присланные после 1701 г. были направлены в ссылку Монастырским или Преображенским приказами, как того требовал петровский указ, кроме одного — безместного диакона Матвея Кононова, присланного в 1703 г. из Патриаршего Духовного приказа (НИОР РГБ. Ф. 570. Карт. 1. Ед. хр. 33. Л. 13). Это позволяет полагать, что судебные дела в отношении духовенства, рассматривавшиеся архиеп. Стефаном (Яворским) в Духовном приказе, могли завершиться приговором о монастырской ссылке без обязательного его утверждения в Монастырском приказе, как, впрочем, и указы епархиальных архиереев, если наказуемые направлялись в монастыри подчиненной им епархии.
Таким образом, создаваемая в петровскую эпоху монастырская пенитенциарная система представляла собой сложный феномен. С одной стороны, ее появление знаменовало торжество петровской идеи огосударствления церковных институтов, максимального их включения в правовые и управленческие институции светской власти. С другой стороны, отечественная система монастырской ссылки не растворилась в формальном праве, создаваемом по воле государства, сохранив некоторую связь с православной покаянной традицией и особое место в цикле жизни многих монастырей вплоть до нач. ХХ в.
В заключение приводим текст указа Петра 1 от 31 июля 1701 г. по самому исправному оригиналу из фонда Кирилло-Белозерского монастыря РГАДА:
«От великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца Кирилова монастыря Белозерского архимандриту Сергию, келарю Варфоломею. В нынешнем 1701-м году июля в 31 день указали мы, великий государь, в архиерейских домех и во всех монастырех властям присланных наших, великого государя, грамот и указов из розных приказов о всяких делах, и подначал никово, окроме Преображенского приказу, не при-нимат, и ничего без послушных грамот из Монастырского приказу не чинить. И как к вам ся наша, великого государя, грамота придет, и вы б по присылке из ыных приказов по нашим, великого государя, грамотам и указом, опричь Преображенского приказу, без послушных из Монастырского приказу наших, великого государя, грамот ничего не чинили. Тако ж послали от себя в приписные в свои во все монастыри памяти и велели чинить против вышеписанного нашего, великого государя, указу. Писан на Москве лета 1701-го, августа в 11 день»
На обороте: Скрепа дьяка Ивана Иванова, справил Федька Иванов.
Подан в монастыре 31 августа 1701 г.
РГАДА. Ф. 1441. Оп. 4. Д. 47