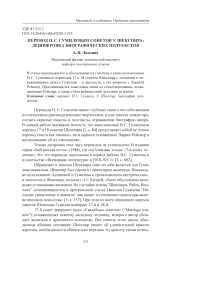Перевод Н.С. Гумилевым сонетов У. Шекспира: дешифровка биографических подтекстов
Автор: Ламзина Анна Владиславовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье высказывается и обосновывается гипотеза о связи выполненных Н.С. Гумилевым переводов 17 и 18 сонетов Шекспира с эмоциями и переживаниями самого Гумилева - в частности, с его романом с Ларисой Рейснер. Прослеживаются смысловые связи со стихотворениями, посвященными Рейснер, а также с биографическими деталями ее жизни.
Перевод, н.с. гумилев, у. шекспир, биография, подтекст
Короткий адрес: https://sciup.org/146281714
IDR: 146281714 | УДК: 81’255.2 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.235
Текст научной статьи Перевод Н.С. Гумилевым сонетов У. Шекспира: дешифровка биографических подтекстов
Переводы Н. С. Гумилева имеют глубокие связи с его собственным поэтическим и драматургическим творчеством, и в их текстах можно проследить скрытые смыслы и подтексты, отражающие биографию автора. В данной работе выскажем гипотезу, что выполненный Н. С. Гумилевым перевод 17 и 18 сонетов Шекспира [1, с. 84] представляет собой не только перевод текста как такового, но и скрытое посвящение Ларисе Рейснер и воспоминание об их отношениях.
Точная датировка этих двух переводов не установлена. В издании серии «Библиотека поэта» (1988), где опубликован только 17-й сонет, отмечено, что эти переводы выполнены в период работы Н.С. Гумилева в издательстве «Всемирная литература» в 1918–921 гг. [3, с. 602].
Обращение к текстам Шекспира само по себе является для Гумилева значимым. Шекспир был одним из ориентиров акмеизма. Изначально подключение Ахматовой и Гумилева к «ренессансным интертекстам», в частности к Шекспиру, полагает Л. Г. Кихней, «было обусловлено цеховыми установками акмеизма. Не случайно имена ”Шекспира, Рабле, Виллона” позиционируются в программной статье Николая Гумилева ”На-следие символизма и акмеизм” как некие эстетические ориентиры акмеистического искусства» [5, с. 157]. При этом из всего обширного корпуса сонетов Шекспира Гумилев выбирает 17-й и 18-й.
17-й сонет завершает цикл «Свадебных сонетов» (“Marriage sonnets”), посвященных некоему молодому человеку, которого автор убеждает жениться и произвести потомство. Все сонеты этого цикла объединены общими мотивами: Шекспир пишет об удивительной красоте адресата, необходимости обязательно передать эту красоту своим потом- кам, практически в каждом сонете также упоминается о быстротечности времени, увядании красоты и грядущей смерти – и появление сына призвано увековечить красоту и продлить жизнь юноши в его потомке. «В 1609 году издатель Томас Торп опубликовал сонеты Шекспира, прибавив к ним посвящение: “Тому единственному, кому обязаны эти сонеты своим появлением, господину W. H., счастья и вечной жизни, которую обещал ему наш бессмертный поэт, желает тот, кто рискнул выпустить их в свет”» [8].
Некоторые биографы склонны считать, что посвящение исходит от самого Шекспира, другие считают, что сонеты опубликованы без ведома автора. «Под инициалами W. H. по разным мнениям спрятано имя либо Уильяма Герберта, графа Пембрука (инициалы совпадают полностью), либо Генри Ризли, графа Саутгемптона (инициалы переставлены), либо Уильяма Хетклифа (выпускника Грейс-Инн), либо актёра Уилла Хьюза (версия Оскара Уайльда)» [Там же].
18-й сонет содержит те же мотивы, что и весь «Свадебный цикл»: описание удивительной красоты адресата, которая будет жить вечно в стихах поэта, восхищенного этой красотой. При этом он уже не входит в «Свадебные сонеты», хотя по порядковому номеру следует сразу после них. Однако в 18-м сонете отсутствует мотив деторождения: если в сонетах 1–17 основная мысль заключается в необходимости оставить потомство, то в 18-м поэт говорит уже только о том, что обладатель несравненной красоты будет вечно жить в его стихах, но не упоминает о детях. Кроме того, в 17-м сонете в обращении к адресату использовано местоимение “you”, а в 18-м – “thou”. В языке Шекспира единственное и множественное число второго лица еще противопоставлены: “you” соответствует русскому «вы» в обоих смыслах (обращение к нескольким людям и вежливое обращение к одному человеку), а “thou” – русскому «ты» как обращению к одному человеку. Это позволяет предположить, что в оригинальном тексте адресат «Свадебных сонетов» отличается от адресата последующих сонетов. Гумилев сохраняет это противопоставление: в переводе 17-го сонета он использует местоимение «Вы», причем пишет его с прописной буквы, а в 18-м сонете – «ты».
Смысловые мотивы в обоих сонетах однозначно перекликаются и в то же время антонимичны. 17-й сонет утверждает, что стихи бессильны передать красоту человека: «Моим поэмам кто б поверить мог, / Коль Ваших качеств дам я в них картину? / Они – гроб Вашей жизни, знает Бог, / Их смогут передать лишь вполовину» [1, с. 84].
В 18-м сонете, наоборот, утверждается, что стихи – не могила красоты, а способ преодолеть смерть: «Но вечное твое не минет лето, / Не потеряет власть своих красот, / Не скажет Смерть – тобой она согрета, /
Коль в вечных строках образ твой живет. / Доколе вольно дышит грудь людская, / Живите, речи, жизнь тебе давая» [Там же].
Если рассматривать эти два произведения в контексте их смысловой связи, они образуют своего рода перекличку: в 17-м сонете утверждается, что красота настолько поразительна, что стихи бессильны ее увековечить и лишь рождение ребенка могло бы дать адресату возможность жить в веках. 18-й сонет говорит уже о том, красота не вечна и только стихи могут ее увековечить – как будто адресат 17-го сонета не прислушался к призыву оставить потомство, и теперь единственным способом сохранения его красоты остаются поэтические строки.
Переводы 17-го и 18-го сонетов, выполненные Н. С. Гумилевым, перекликаются с мотивами его собственных стихотворений и могут быть навеяны образом Ларисы Рейснер. В пользу этого предположения свидетельствуют следующие доказательства.
Во-первых, перевод Гумилевым 17-го сонета содержит чрезвычайно любопытную особенность: Гумилев единственный среди четырех переводчиков этого текста на русский язык, кто не упомянул в сонете, что его адресат – мужчина. Сонет стал «андрогинным»: его текст может быть адресован как мужчине, так и женщине. В оригинальном тексте Шекспира также отсутствует упоминание о мужском или женском поле адресата: в силу морфологических особенностей английского языка, когда автор обращается к адресату на Вы (“you”), в глаголах и прилагательных не отражается информация о мужском / женском поле этого адресата. Прилагательные в английском не имеют специфических адъективных окончаний, различающихся по роду, то же касается и глаголов.
При переводе текста на русский язык переводчик вынужден согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с реальным полом адресата («красивый / красивая», «жил / жила»). Практически весь текст 17-го сонета представляет собой не обращение к адресату, а описание стихов автора, бессильных перед уникальной красотой адресата. Однако завершающее двустишие представляет собой прямую адресацию: “But were some child of yours alive that time, / You should live twice, – in it and in my rhyme” [9].
В переводе С. Я. Маршака в последнем двустишии отчетливо отражен мужской пол адресата: «Но, доживи твой сын до этих дней, / Ты жил бы в нем, как и в строфе моей!» [Там же]. То же видим в переводе М. И. Чайковского: «Когда ж бы сын твой был в твоих летах, / Ты жив бы в нем был и – в моих стихах» [Там же]. Эти же две строки в переводе А. М. Финкеля также четко дают понять, что текст адресован мужчине, а не женщине: «Но доживи твой сын до тех времен, – / Ты б и в стихах, и в нем был воплощен» [Там же].
Отметим, что все переводы, цитированные выше, используют обращение на «ты» (при использовании в оригинале “you”, на тот момент противопоставленного “thou”) и согласуют с «ты» глаголы и краткие прилагательные в мужском роде («ты жил», «ты жив был», «ты был»). Если бы переводчики, следуя оригиналу, использовали бы местоимение «Вы» в значении вежливого обращения к одному человеку, им пришлось бы прибегать к множественному числу глаголов и прилагательных («Вы жили», «Вы живы» и пр.), и информация о поле адресата не отражалась бы.
Гумилев же прибегает к «бесполому» варианту перевода: «Но будь у Вас ребенок в веке том, / Вы жили б дважды – и в стихах, и в нем» [1, с. 84].
Текст 17-го сонета в переводе Гумилева, если рассматривать его в отрыве от контекста цикла «Свадебных сонетов», также наводит на мысль, что адресат скорее женщина, чем мужчина: «И опиши я Ваших взоров свет / И перечисли все, что в Вас прелестно, / Грядущий век решил бы: «Лжет поэт, / То лик не человека, а небесный» [Там же].
Эпитет «прелестный» в русском языке чаще применяется именно к женской красоте. У Гумилева образ проявляющейся в человеке небесной красоты описан в стихотворении «Канцона» 1917 года: «Бывает в жизни человека / Один неповторимый миг: / Кто б ни был он, старик, калека, / Как бы свой собственный двойник, / Нечеловечески прекрасен / Тогда стоит он; небеса / Над ним разверсты; воздух ясен; / Уж наплывают чудеса». Далее по тексту этого стихотворения проявляется, что его адресат – женщина, поразившая поэта как раз такой небесной красотой: «Волшебница, я не случайно / К следам ступней твоих приник: / Ведь я тебя увидел тайно / В невыразимый этот миг» [2, с. 199].
«Канцона» посвящена Ларисе Рейснер и послана ей в письме 22 февраля 1917 г. Гумилев познакомился с Рейснер в 1915 г., и в 1915– 1917 гг. они многократно встречались и переписывались. В письмах, обращаясь к ней, Гумилев употреблял именно местоимение «Вы» с прописной буквы, как в 17-м сонете [Там же, с. 196–199].
Сама Рейснер, по свидетельству современников, обладала удивительной, притягивающей внимание красотой [7] и при этом была одной из немногих женщин, реализовавших себя в мужской гендерной роли: она участвовала в боевых действиях, ходила в разведку, строила карьеру военного политика. «Смелость Ларисы была поразительной. Ее, что называется, и пуля боялась, и штык не брал. Она не пригибалась под обстрелом, как и Гумилев, награжденный за храбрость двумя “Георгиями”, ходила в разведку, совершала дерзкие вылазки, попадала в плен, была на краю гибели, и всякий раз оказывалась победительницей. И при этом оставалась женщиной, красуясь перед матросами в нарядах, найденных в покинутых имениях» [4].
Если представлять себе гипотетического адресата 17-го и 18-го сонетов, переведенных Гумилевым, как некоего удивительно красивого человека, то ли женщину, то ли мужчину (а возможно, и женщину, и мужчину), чья красота могла бы быть увековечена в ребенке, то в определенный момент становится ясно, что он (она) не создан(а) для обыкновенной семейной жизни и вряд ли оставит потомство. Поэтому лишь стихи станут способом сохранить память об этой красоте. Из всего окружения Гумилева этот образ подходит именно Ларисе Рейснер. Она и сама была исследователем Шекспира, и в 1913 году под псевдонимом Лео Ринус опубликовала небольшое литературоведческое эссе «Женские типы Шекспира», посвященное образам Офелии и Клеопатры.
Ларисе Рейснер посвящены многие стихотворения Гумилева, она является прототипом героинь пьес «Гондла» (Леры-Лаик) и «Дитя Аллаха» (Пери). Имена героинь созвучны имени «Лери» – так Гумилев называл Рейснер в переписке. 8 ноября 1916 г. Гумилев сообщает Рейснер, что она станет прототипом героини еще одной его новой пьесы: «И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность» [2, с. 196]. 22 января 1917 г. в другом письме Гумилев обещает, что эта новая пьеса будет представлять собой «синтез Шекспира и Расина» [Там же, с. 198].
Примерно в 1918 г. взаимоотношения Гумилева и Рейснер уже прекратились, были разорваны по ее инициативе: «Трудно точно сказать, когда были написаны ответные строки, но ясно одно: они подвели итог их прекрасным и возвышенным отношениям. Лариса Михайловна писала: “В случае моей смерти все письма вернутся к Вам. И с ними – то странное, которое нас связывало, и такое похожее на любовь. И моя нежность – к людям, уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам окрепла, отбросила сбою собственную тень среди других людей – стала творчеством… будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог”. Как эхо прежних отношений звучит подпись: “Ваша Лери”» [10]. Скорее всего, строки были написаны перед уходом Рейснер на фронт ранней весной 1918 года.
В 1920 г. Рейснер вернулась в Петербург, по-видимому, периодически видела Гумилева, но между ними уже не было близкого общения. Она будет продолжать думать о Гумилеве – по свидетельствам современников, она хотела взять на воспитание его сына Льва, после смерти Гумилева заботилась о его дочери от Анны Энгельгардт, много лет помогала Анне Ахматовой, тяжело переживала известие о гибели Гумилева [6]. В
1922 г. она писала: «Если бы перед смертью его видела, – все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца. Вот и все» [10].
От произведения, представлявшего собой «синтез Шекспира и Расина», посвященного Рейснер, не сохранилось даже черновиков. Однако среди посвященных ей стихотворений есть не «синтез Шекспира», а подлинный Шекспир – перевод двух сонетов, навеянный образом Рейснер и выполненный уже после ее разрыва с Гумилевым. Об этом свидетельствует общность образов 17-го и 18-го сонетов со стихотворениями, посвященными Рейснер, а также сам выбор Н. С. Гумилевым текстов для перевода. Мотивы удивительной, небесной красоты адресата, который является то ли женщиной, то ли мужчиной, пожелание продлить эту красоту в ребенке – и осознание невозможности этого (образ жизни Ларисы Рейснер и ее стремительная политическая карьера наводили на мысль, что этой женщине вряд ли суждена размеренная семейная жизнь и появление ребенка) – это завуалированное обращение к Рейснер и сожаление о невозможном и не состоявшемся в ее жизни.
Список литературы Перевод Н.С. Гумилевым сонетов У. Шекспира: дешифровка биографических подтекстов
- Гумилев Н.С. Переводы. СПб.: Вита Нова, 2019. 688 с.
- Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8: Письма. М.: Воскресенье, 2007. 640 с.
- Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. 632 с.
- Ерофеева-Литвинская Е. Лариса Рейснер и Николай Гумилев: Лери и Гафиз [Электронный ресурс] // Матроны. ру. URL: https://www.matrony.ru/larisareysner-i-nikolay-gumilev-leri-i-gafiz/. (Дата обращения: 04.06.2020.)
- Кихней Л.Г. Функции шекспировских и дантовских мотивов в поэзии Анны Ахматовой // Русская литература. 2014. № 2. С. 156-176.
- Кружков Г.М. "В случае моей смерти все письма вернутся к вам" // Кружков Г.М. Ностальгия обелисков: Литературные мечтания. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 381-397.
- Рейснер Лариса Михайловна. История жизни [Электронный ресурс] // Спроси Алёну. URL: https://tonnel.ru/?l=gzl&uid=1031. (Дата обращения: 04.06.2020.)
- Свами Ранинанда. Сонет 17. Уильям Шекспир [Электронный ресурс] // Стихи.ру. URL: https://stihi.ru/2020/04/20/9675. (Дата обращения: 04.06.2020.)
- Шекспир У. Сонет 17 на английском [Электронный ресурс] // Мир книг на английском языке. URL: http://engshop.ru/shekspir-sonet-17-na_anglieskom/. (Дата обращения: 04.06.2020.)
- Шоломова С. Судьбы связующая нить (Лариса Рейснер и Николай Гумилев) [Электронный ресурс] // Николай Гумилёв. URL: https://gumilev.ru/ biography/171/. (Дата обращения: 04.06.2020.)