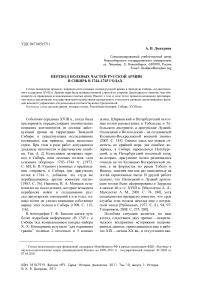Перевод полевых частей русской армии в Сибирь в 1744-1745 годах
Автор: Дмитриев Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена процессу перевода пяти полевых полков русской армии в Западную Сибирь, осуществленного в середине XVIII в. Данная мера была вызвана военной угрозой со стороны Джунгарского ханства, чем объясняется ее проведение в максимально сжатые сроки. Вместе с тем, в ходе этого процесса возникали противоречия между различными государственными ведомствами центрального и местного уровней, выполнявшими функции военного управления для реализации соответствующих предписаний.
Русская армия, полевые полки, российская империя, сибирь, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/14737379
IDR: 14737379 | УДК: 947.065(571)
Текст научной статьи Перевод полевых частей русской армии в Сибирь в 1744-1745 годах
Событиям середины XVIII в ., когда была предпринята передислокация значительных воинских контингентов из состава дейст вующей армии на территорию Западной Сибири , в существующих исследованиях посвящают , как правило , лишь несколько строк . При этом в ряде работ допускаются досадные неточности и фактические ошиб ки . Так , А . Д . Колесников датировал пере вод в Сибирь пяти полевых полков « для усиления обороны » 1743–1744 гг . [1973. С . 68]; Б . П . Гуревич упоминал о предписа нии отправить в Сибирь три драгунских полка в 1744 г ., добавляя , что « туда же перебрасывались другие воинские части » [1983. С . 76]. Наконец , В . А . Моисеев оста новился на последствиях , которые возымела переброска войск в складывании рус ско - джунгарских отношений в эти годы , од нако почти не уделил внимания собственно маршу этих полков в Сибирь [1998. С . 115, 116].
В монографии Г. Ф. Быкони дается чуть более подробная информация: «В 1745 г. в Сибирь под командованием генерал-майора Х. Х. Киндермана вступили “для охранения границ” полевые 2 пехотных и 3 конных полка. Ширванский и Петербургский пехотные полки разместились в Тобольске и Тобольском дистрикте, а драгунские Луцкий, Олонецкий и Вологодский – на создаваемой Колывано-Воскресенской военной линии» [2007. С. 155]. Однако здесь мы можем отметить, по крайней мере, две ошибки: во-первых, в Сибирь переводился Нотебург-ский, а не Петербургский пехотный полк; во-вторых, драгунские полки размещались отнюдь не на Колывано-Воскресенской линии, а на форпостах по рекам Тоболу и Ишиму, заменяя там как раз выведенные на Алтай гарнизонные части. В другой работе сказано, что Олонецкий и Луцкий драгунские полки были сформированы в Зауралье в начале 40-х гг. XVIII в. [Малолетко А. А., Малолетко А. М., 2001. С. 74, 180], хотя специалистам прекрасно известно, что срок службы этих полков начался еще с петровской эпохи [Рабинович, 1977. С. 81, 94, 97; Татарников, 2008. С. 275, 288].
Подобная ситуация является, на наш взгляд, следствием двух причин – некритического восприятия историками непроверенных данных, приводившихся еще в работах XIX – начала XX вв., и отсутствием вве- денных в научный оборот архивных материалов, посвященных этому сюжету. Мы уже уделяли ему внимание в одной из предыдущих своих публикаций [Дмитриев, 2010. С. 88, 89], а сейчас постараемся максимально полно и в деталях восстановить ход событий, опираясь на сведения, выявленные нами в фонде Воинской экспедиции канцелярии Военной коллегии в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА. Ф. 20). По нескольким делам, содержащим обширный комплекс делопроизводственной документации, специально посвященной событиям 1744–1745 гг., мы имеем возможность проследить, как шли подготовка и осуществление передислокации полевых армейских частей на территорию Западной Сибири, какими причинами это было вызвано и какие функции выполняли в ходе этого процесса различные центральные и местные государственные учреждения.
Передвижение войск , располагавшихся на территории страны в относительной бли зости к границам Сибирской губернии , на чалось весной 1744 г . Указом императрицы Елизаветы , полученным из Сената Военной коллегией 11 марта , предписывалось « для предосторожности во всех пограничных местах от киргис - кайсацких воровских на бегов » выдвинуть на Закамскую линию , по строенную в 1730- х гг . от Самары до Мен зелинска , три драгунских полка – Луцкий , Вологодский и Олонецкий . Первых два на тот момент были расквартированы в Казанской губернии под командованием бригадира И . Барденевича ; последний дис лоцировался в Нижегородской губернии , подчиняясь генерал - майору Н . Стрешневу . За расположение полков на новом месте и снабжение их провиантом и фуражом ответ ственность возлагалась на оренбургского губернатора , тайного советника И . И . Не - плюева . Соответствующий приказ Военной коллегии был отправлен к нему спустя две с половиной недели 1.
В середине апреля, находясь в Кичуй-ском фельдшанце 2 на Закамской линии, Неплюев получил этот приказ. Выезжая оттуда 19 апреля в Оренбург, он оставил распоряжение премьер-майору Исакову и капитану Цвейбергу (офицерам Казанского гарнизонного драгунского полка): «Когда оные полки прибудут, чтоб им показать, где им в компамент стать и лошедям доволное пасбище иметь по обеим сторонам Закам-ской линии между рек Шешмы и Черемша-на, не чиня утеснения и обид обывателям» 3. Хотя полкам предписано было «выступить в марш по первой вешней траве», однако они двинулись в путь лишь в мае. Генерал-майор фон Штокман, командовавший частями, располагавшимися на Закамской чли-нии и в Оренбургской губернии, сообщил Неплюеву, что Вологодский полк прибыл к месту назначения 6 июня, Луцкий – 14 июня. Кроме того, он отметил, что хотя «оные полки людми и лошадми состоят почти в полном комплете, но ис того многие росходы людем показаны» 4. Действительно, из 1 118 чел. рядовых и офицеров Луцкого полка налицо оказались только 856 чел. при 820 лошадях, из 1 116 чел. Вологодского полка – 744 чел. при 840 лошадях. Олонецкий полк, в начале июня только выступивший в поход, насчитывал 1 148 чел. при 769 лошадях 5.
Проведя на Закамской линии лето 1744 г ., эти драгунские полки должны были возвра титься на зиму в Казанскую губернию . По крайней мере , из этого исходил губернатор Неплюев , еще в августе запрашивая Воен ную коллегию о том , куда переводить их « на винтер - квартиры ». Не получая ответа , он сам уже в сентябре запросил Казанскую губернскую канцелярию , чтобы та « прика зала заблаговремянно тем полкам в ведом стве своем винтер - квартиры назначить по сю сторону реки Камы <…> и опреде лить в зиму камисаров и денги к их содер жанию » 6.
Однако все изменилось, когда в конце августа сибирский губернатор А. М. Сухарев получил от комендантов Верхне-Иртышских крепостей известия о намерении правителя Джунгарского ханства Галдан-Цэрэна «иттить войною на Усть-Каменогорскую, Семиполатную и Ямышевскую крепости и на Колывано-Воскресенской за- вод» 7. Это обстоятельство традиционно выделяется исследователями в качестве главной причины, повлекшей за собой переброску в Сибирь армейских частей. Н. Г. Аполлова прямо указывала: «В 1744– 1745 гг. русское правительство было встревожено слухами о намерении джунгарского хун-тайджи Галдан-Церена разрушить крепости по Иртышу» [1976. С. 125]. В. А. Моисеев подчеркивал, что многочисленные сведения поступали от самых разных информаторов: русских служилых людей, алтайских урянхайцев, казахов и др. [1998. С. 113, 114]. Известия эти действительно вызвали в Петербурге сенсацию и панику, а также повлекли за собой целый ряд мгновенно принятых решений.
Уже 2 октября 1744 г . Военная коллегия получила из Сената несколько указов , соб ственноручно подписанных императрицей Елизаветой . В них содержались требования немедленно отправить в Западную Сибирь пять полевых полков : три драгунских и два пехотных . Для этого были предназначены упомянутые выше драгунские части , а также Ширванский и Нотебургский пехотные пол ки . Рассчитывая , что драгунские полки ус пеют к месту своего нового назначения еще до наступления зимы , Военная коллегия предписала им « следовать в Сибирскую гу бернию в самой крайней скорости , и высту пить оным полкам в поход по получении указа на другой или конечно на третей день , и в пути , кроме самой нужды для отдохно вения людям и лошадям , отнюдь нигде не мешкать » 8. Обеспечить их на марше необ ходимым провиантом и фуражом должен был губернатор Сухарев . Для этого от каж дого полка к нему следовало отправить на рочных , которые информировали бы его о маршрутах следования , после чего губерна тор мог бы успеть заготовить на всем про тяжении этих маршрутов « провианта и фу ража надлежащее число ». Заменить эти час ти на Закамской линии решено было силами трех других драгунских полков , дислоциро ванных тогда в Алатырской провинции – Ревельского , Троицкого и Московского 9.
Гораздо сложнее обстояло дело с двумя пехотными полками . Дислоцированные на юге европейской части страны , в крепости
Св . Анны близ устья Дона , они получили приказ двигаться в Сибирь уже после того , как выступили в конце сентября на зимние квартиры к г . Острогожску Воронежской губернии . При этом значительная часть полковых запасов ( оружие , амуниция , мун диры , сукно и пр .) остались в цейхгаузах крепости , оба полка выступили в поход поч ти налегке . К середине октября они уже вступили в Воронежскую губернию , где и получили распоряжение из Петербурга : « Не мешкая во Острогожску и не ожидая остав - ших от тех полков полковых тягостей , раз ведывая , где надлежит , способным и бли жайшим путем маршировать в Сибирскую губернию в самой крайней скорости , не мешкая нигде ни за чем без замедления » 10. При этом для ускорения движения рекомен довалось оставить в пути всех больных : « Имеющихся в тех полках болных полко вых служителей , как за тяжкими болезнми взять невозможно , оставить в способном месте по их разсмотрению и отдать тамош ним в городех воеводам , а в протчих местах управителем с надлежащим доволством , которым , приняв , содержать под добрым присмотром » 11. Доставить же к полкам ос тавленные ранее запасы требовалось силами подъемных лошадей Санкт - Петербургского и Шлиссельбургского пехотных полков , пе реводившихся из Киева в крепость Св . Ан ны вместо выведенных оттуда Ширванского и Нотебургского . Кроме того , по пути сле дования им должны были « давать градских уездных подвод на каждой полк по сту по пятидесят лошадей <…> а прогонныя и по - верстныя денги за помянутыя подводы пла тить из имеющихся при тех полках налич ных денег , а ежели при тех полках денег налицо нет , то Военной коллегии потребное число определить из воинской суммы на щет чрезвычайных росходов » 12.
Поскольку обоим полкам должно было понадобиться несколько месяцев , чтобы до браться до сибирских границ , тем более в условиях наступающей зимы , Военная кол легия сочла возможным разрешить « в слу чае жестоких морозов и стуж показанным полкам от марша удержатца , и премены тех тяжких морозов и стужи ожидать в кварти рах , дабы от того людем не учинить повре -
-
10 Там же . Ч . 5. Л . 45–47.
-
11 Там же . Л . 47 об .
-
12 Там же . Л . 145, 145 об .
ждения и трат » 13. Впрочем , марш их прохо дил довольно быстро : уже к концу ноября оба полка находились в окрестностях Там бова , откуда и должны были выступить на восток . Фактором , способным несколько замедлить их передвижение , могла стать нехватка в полковой казне наличных денег для оплаты прогонов за подводы : « Летом – по 1 коп ., а зимой – по 1/ 2 коп . с версты , а за простой на дворе , как за рабочий день »» [ Соловьев , 1900. С . 91]. Поскольку имею щейся в обоих полках суммы (844 руб .) бы ло явно недостаточно , Воронежской губерн ской канцелярии пришлось ассигновать по полторы тысячи рублей каждому полку 14.
С аналогичными проблемами , впрочем , столкнулись и три драгунских полка . Начать с того , что из - за передислокации на За - камскую линию они не получили жалования за майскую ( т . е . вторую ) треть 1744 г ., а начиная оттуда поход в Сибирь , должны были остаться без жалования и за сентябрь скую треть . В связи с этим Главный комис сариат , с недавних пор отвечавший за фи нансирование войск ( после отделения от Военной коллегии ) [ Столетие , 1902. С . 30; Бескровный , 1958. С . 71], в начале ноября предписал Казанской губернской канцеля рии : « Означенным полкам на майскую сего 1744 года треть денежное жалованье произ весть , також и на заплату тем полкам за сен - тябрскую сего ж года треть жалованья , что надлежит , денежную казну в те полки от пустить из Казанской губернской канцеля рии из наличных подушного и других , какия ни есть , зборов денег » 15. Кроме того , они также оставили немалую часть своих веще вых запасов : Луцкий полк в Казани , Воло годский – в ее пригороде Малмыже , а Оло нецкий – в г . Балахне Нижегородской гу бернии . Эти вещи велено было отправить « в самой скорости до тех полков , где оныя мо гут достичь , на наемных подводах , а буде оных не сыщется , то на уездных подводах з заплатою по Плакату из подушных налич ного збора имеющихся в тех губерниях де нег » 16. Соответствующие указы повез из Петербурга в Казань нарочный курьер , сер жант Копорского пехотного полка П . Шиш кин .
Затем к делу подключилась Канцелярия главной артиллерии и фортификации . По скольку принявший на себя командование тремя драгунскими полками на время марша в Сибирь полковник Джон Крафт сообщил , что « пушек при тех полках ныне ни одной не имеется », то решено было снабдить каж дый полк двумя медными 3- фунтовыми пушками . Военная коллегия распорядилась было снять нужное количество пушек с За - камской линии , однако Артиллерийская канцелярия решила иначе . Пушки решено было отправить из Москвы вслед за дви гающимися в Сибирь полками , причем уже не 6, а 10 орудий , поскольку артиллерия также понадобилась и двум пехотным пол кам . Аналогичное предписание выдали и в отношении трех драгунских полков , пере брасывавшихся в Оренбургскую губернию . Перевезти всю эту артиллерию Канцелярия рассчитывала силами 96 лошадей ( по 6 на каждое орудие ), а от Военной коллегии тре бовала прислать офицера с 12 рядовыми для сопровождения . По прибытии из Москвы в Казань ему надлежало , « оставя отправляю щуюся к Аренбурху артиллерию , служител - ми и лошадми , кому от Казанской губерн ской канцелярии принять будет определено , следовать до Таболска немедленно , а по прибытии туда оную артиллерию и служи телей в вышепомянутые полки роздать не медленно . А оставшею артиллерию к Орен - бурху с людми и лошадми Казанской гу бернской канцелярии , определя для препро вождения оной надлежащей канвой ис та мошних гарнизонных полков , отправить туда в самой крайней скорости » 17. Большую часть конского состава , « сверх того числа , что в полках при настоящих пушках от ар тиллерии содержать надлежит » ( по 2 лоша ди к каждому орудию ), Артиллерийская канцелярия в дальнейшем собиралась про дать находящимся в Сибирской и Оренбург ской губерниях гарнизонным частям , рас считывая выручить за них около 700 руб .: « А Военная коллегия благоволила б за те излишния лошади за каждую по осми руб лев , а за аммуницию по артиллериской штатной цене заплатить » 18.
Отправка пушек затянулась, поскольку Артиллерийская канцелярия в дальнейшем изменила свои первоначальные планы. Поскольку в Москве не было известно, какими маршрутами двигаются в Сибирь драгунские и пехотные полки, Канцелярия опасалась, чтобы «бес подлинного о их тракте известия оную артилерию напрасно не провести до Тоболска и до Оренбурха, и тем бы служителем и лошадям излишняго отягощения и труда, також и время продолжения не учинить» 19. Поэтому ее чиновники запросили полковника Крафта, «чтоб от оных полков для принятия помянутой артилерии с лошадми оставлены были в пристойном месте надлежащие конвои». В итоге только в середине декабря 1744 г. подпоручик Великолуцкого пехотного полка И. Ахманов повез на восток вверенные его попечению 16 медных пушек и 32 медных 6-фунтовых мортиры «кугорного манира» 20. Также груз включал соответствующие артиллерийские принадлежности: колеса с осями, свинцовые и кожаные покрышки, снарядные ящики, фитили, втулки и т. д. 21
Не удалось , впрочем , сразу отправить вслед двигающимся в Сибирь полкам и ос тавленные ими вещи – понадобилось не сколько распоряжений , адресованных из Главного комиссариата местным губернато рам . Мундиры и амуницию , годные к упот реблению , требовалось « отправить до тех полков , где оныя могут достичь на ямских или на уездных или на наемных подводах , усмотря как способнее , дабы излишняго ка зенного убытку напрасно не последовало , токмо в том всевозможное всякими мерами приложить старание , чтоб те вещи всеко - нечно отправлены были в самой скорости под опасением за умедление тяхчайшаго ответа » 22. Все эти неоднократно повторяю щиеся в изученных нами документах фор мулировки наводят на мысль , что бюрокра тические механизмы как военного , так и гражданского управления не всегда дейст вовали с надлежащей быстротой и эффек тивностью , что замедляло переброску в Си бирь армейских частей , которой верховная власть придавала столь большое значение .
Принять командование как над перебра сываемыми в Сибирь полевыми , так и над уже расквартированными там гарнизонны ми полками должен был генерал - майор Христиан Киндерман (Kindermann). Саксо нец по происхождению , он вступил в рус скую службу еще в годы царствования Пет ра Великого и , последовательно пройдя все ступени чиновной лестницы , дослужился к началу 1740- х гг . до генеральского звания 23. Сенатским указом от 27 сентября 1744 г . предписывалось , выдав ему жалование за треть года вперед , отправить Киндермана из Петербурга в Москву , объявив ему , что он « употреблен будет к команде в Сибирь для некоторой нужнейшей экспедиции » [ Сенат ский …, 1893. С . 199]. Однако еще до его отъезда в Сибирь туда же направился бри гадир Иван Юрлов , который должен был начальствовать над всеми сибирскими час тями до прибытия командующего [ Там же . С . 228]. Указ о выдаче из Штатс - контор - коллегии денег им обоим подписала 11 но ября императрица Елизавета : Киндерману следовало получить тысячу рублей , Юрлову – 400 24. Приняв от Военной коллегии под робную инструкцию , генерал - майор Кин - дерман выехал из Москвы 22 ноября 25.
Прибыв ровно через месяц в Екатеринбург, Киндерман застал там Олонецкий драгунский полк, «а Вологоцкой и Луцкой полки следуют позади не в далном растоя-ние» 26. Здесь ему пришлось разбирать обвинения, выдвинутые в адрес полковника Крафта оренбургским губернатором Не-плюевым при поддержке Сената. Еще в середине ноября Неплюев отправил в Сенат рапорт, в котором утверждал, что Крафт, получив распоряжение о переброске трех драгунских полков в Сибирь, вместо этого сначала двинулся обратно к Казани. Губернаторский гонец, солдат Пензенского пехотного полка Самсонов, нашел Олонецкий полк в 30 верстах от Казани, а самого Крафта обнаружил только в самом городе. Оправдываясь, полковник утверждал, что проделал этот маневр, дабы все полки могли «в самой крайней скорости» получить денежное жалование, провиант и фураж, которые могла отпустить им Казанская губернская канцелярия, но на получение которых трудно было бы рассчитывать, уже начав марш в Сибирь [Сенатский…, 1893. С. 271]. Однако Неплюев, не приняв во внимание эти объяснения, указав, что Крафт «более 400 верст излишним путем идет, и тем людей и лошадей утруждает». Кроме того, полковник имел неосторожность распорядиться отдать под суд премьер-майора Олонецкого полка А. Сташкеева якобы за кражу и растрату денег, выданных ему для закупки фуража (81 руб. 46 коп.), а последний в ответ сам подал на командира донос, обвинив его «в разных непорядках» 27.
Согласно решению Сената от 3 декабря, полковника Крафта велено было «судить военным судом и для того от команды его отрешить, а те полки поручить в команду другому» [Там же. С. 273]. Однако, поскольку этот указ был получен уже прибывшим в Екатеринбург генерал-майором Киндерманом, он сам разобрал дело. По приговору военного суда за Крафтом «никакой винности не нашлось», и он продолжал исполнять обязанности полкового командира 28. Вместе с тем он обнаружил, что уже нет необходимости так спешить – сибирская администрация еще раньше убедилась, что опасность немедленного начала войны с Джунгарским ханством сильно преувеличена 29, а теперь это стало ясно и в столице. Сибирский губернатор Сухарев еще до прибытия командующего предлагал полковнику Крафту, получив провиант и фураж от Екатеринбургской таможни, следовать с драгунскими полками в Тюменский, Красно-слободский и Туринский уезды, где им предстояло расположиться «на винтер-квартиры» 30. По приказу Киндермана Олонецкий полк 24 декабря выступил из Екатеринбурга к Тюмени, а за ним по-прежнему должны были следовать и два других полка 31. Сенат же 11 января 1745 г. предложил командующему, «буде те полки ныне там быть не потребны, тогда оные, дабы в нынешнее зимнее время люди и лошади не понесли крайней нужды, остановить и велеть расположиться по квартирам поблизости к той губернии, ежели оные в ту губернию не вошли» [Сенатский…, 1893. С. 299]. Когда в начале февраля 1745 г. вслед за драгунскими прибыли оба пехотных полка, Киндер-ман, следуя полученному указу, «для их далняго походу и отдохновения» расположил Нотебургский полк в Тюмени, а Шир-ванский – в Екатеринбурге 32.
Завершающий этап наступил весной 1745 г ., когда Киндерман , воспользовав шись наступившей ранней весной , с 15 мар та начал переброску гарнизонных частей , располагавшихся вдоль южной границы по рекам Тоболу и Ишиму , в Верхне - Иртыш ские крепости , а их место здесь стали зани мать полевые полки . Всем трем драгунским полкам командующий предписал « из ны нешних квартир в Ялуторовской дистрикт и к Ышимским фарпостам и к уезду до Тары и Чернолуцкой слободы движение иметь » 33. За ними последовал Ширванский полк , а большую часть контингента Нотебургского полка решено было употребить для конвои рования перевозок на речных судах прови анта , собранного в Тобольске и ближайших к нему городах , в крепости по Иртышу 34. К лету Луцкий драгунский полк располо жился между Тоболом и Ишимом , а Оло нецкий , Вологодский и Ширванский полки прикрывали границу на всем протяжении от Коркиной слободы на Ишиме до Омской крепости . Сам Киндерман расположил свой штаб и походную канцелярию в г . Таре [ Там же . С . 502]. В последующие несколько лет все эти полевые части сохраняли свои места постоянной дислокации , выделяя часть кон тингентов либо для пополнения гарнизонов Верхне - Иртышских крепостей , либо для расквартирования в Тобольске , Таре , Тюме ни и других крупных городах Западной Си бири .
Итак, мы видим, что процесс перевода на территорию Сибири армейских частей далеко не во всех аспектах можно было назвать хорошо подготовленным. Более того, в ходе этих событий выявились противоречия между различными государственными учреждениями, как на уровне местного управления, так и в отношениях между центральной властью и губернской администрацией. Решение о переброске на южные границы России в Зауралье и Западной Сибири полевых полков было спонтанным, принятым под влиянием сиюминутных обстоятельств. Этим и объясняется выбор тех воинских частей, которые для этого предназначались, – драгунских полков, уже находившихся на Закамской линии. Относительно пехотных полков можно предполагать, что был принят во внимание их статус, поскольку они принадлежали к составу бывшего Низового корпуса, еще в 1730-х гг. выведенного из прикаспийских провинций, и считались сверхштатными. Лишь в конце 1745 г., уже находясь в Сибири, они, наряду с другими аналогичными подразделениями, были обращены в штатные [Висковатов, 1899. С. 15, 16].
С 1745 г . полевые армейские части на территории Сибири начали выполнять фак тически те же функции , что и ранее дисло цировавшиеся здесь гарнизонные войска , связанные , прежде всего , с охраной границ . Описанный нами эпизод явился лишь пер вым звеном в цепи мероприятий , направ ленных на укрепление обороноспособности границ – на всем протяжении второй поло вины XVIII в . численность армейских под разделений на « восточной окраине » Россий ской империи будет неуклонно нарастать [ Зуев , 2009. С . 13–15]. При этом , как спра ведливо отметил В . А . Моисеев , « перебро ска столь значительного числа войск без собственных запасов фуража и продоволь ствия поставила местные власти Сибири в трудное положение ». Однако « запущенную машину невозможно было остановить … Войска , испытывая большие трудности в снабжении , ускоренным маршем шли на Восток » [1998. С . 116]. Как нам удалось установить , далеко не всегда создавались все необходимые условия и для их перевода сюда , и для эффективного выполнения воз ложенных на них задач . Данная тенденция прослеживается и в делах , связанных непо средственно со сферой военного управле ния , и в функционировании механизмов ма териального обеспечения военнослужащих .
TRANSFER OF RUSSIAN ARMY'S FIELD REGIMENTS TO SIBERIA
IN 1744–1745