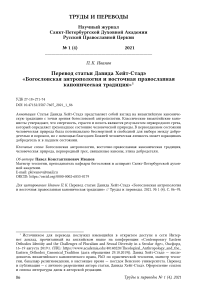Перевод статьи Давида Хейт-Стадэ "Богословская антропология и восточная православная каноническая традиция"
Автор: Иванов Павел Константинович
Журнал: Труды и переводы @proceedings-and-translations
Рубрика: Восточное богословие
Статья в выпуске: 1 (4), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья Давида Хейт-Стадэ представляет собой взгляд на византийскую каноническую традицию с точки зрения богословской антропологии. Классические византийские канонисты утверждают, что смертность, страсти и похоть являются результатом первородного греха, который определяет грехопадшее состояние человеческой природы. В первозданном состоянии человеческая природа была потенциально бессмертной и свободной для выбора между добродетелью и пороком, но с помощью благодати Божией человеческая личность может взращивать добродетель и в падшем состоянии.
Богословская антропология, восточно-православная каноническая традиция, человеческая природа, первородный грех, священные каноны, этика добродетели
Короткий адрес: https://sciup.org/140294811
IDR: 140294811 | УДК: 27-18+271-74 | DOI: 10.47132/2587-7607_2021_1_86
Текст научной статьи Перевод статьи Давида Хейт-Стадэ "Богословская антропология и восточная православная каноническая традиция"
В своей презентации я попытаюсь посмотреть на византийскую каноническую традицию с точки зрения богословской антропологии.
Богословская антропология в современном богословии отражает три главные области: открытость человеческой личности Богу, самораскрытие Бога человечеству и богословская рефлексия человеческой природы и состояния человека ( conditio humana ), с особым акцентом на таких темах как образ Божий ( imago Dei ), свобода, грех и спасение во Христе.
Древние и византийские источники восточно-православной канонической традиции не проводят различия между разнообразными феноменами, которые в современных условиях классифицируются как религия, законность и мораль. В прежних условиях эти феномены были переплетены, хотя они все еще накладываются друг на друга в современных условиях, которые мы можем видеть в публичном дискурсе; например, когда светскость государства сталкивается с религиозной свободой, когда коллективная религиозная свобода сталкивается с индивидуальной религиозной свободой, когда религиозная или светская этика критикует закон, или когда государство посредством закона пытается стать посредником между религией и светской этикой.
В зависимости от политического контекста конкретной Поместной Церкви, различные аспекты канонической традиции должны быть классифицированы как законность или религиозная мораль в отношении правового статуса Поместной Церкви и религиозной свободы ее членов в современном государстве, чьи notae reipublicae являются секулярность, гражданское общество и демократия.
Если мы проанализируем тексты, составляющие corpus canonum (т. е. священные каноны) классических византийских сборников канонического права, мы можем классифицировать их по трем типам канонов: (а) каноны, регулирующие институциональную Церковь; (б) каноны, регулирующие христианскую нравственность; и (в) каноны, регулирующие православное вероучение. В своей презентации я сфокусирую внимание на канонах, которые в целом говорят о состоянии человека и его природе. Это, конечно, прежде всего, каноны, касающиеся христианской нравственности, так как грех и добродетель являются аспектами богословского понимания состояния человека. Я также рассмотрю интерпретацию этих канонов классическими византийскими канонистами, которые сформировали юриспруденцию византийской канонической традиции начиная с XII века.
Но сначала я должен сделать общее замечание о природе христианской нравственности. Общей темой христианской нравственности является не какой-то кодекс ценностей и правил, которые отделяют христиан от остального человечества, а скорее человеческий ответ через веру на Троическое самораскрытие Бога как Любви через Жизнь, Смерть и Воскресение Иисуса Христа. «Бог есть любовь. Любовь Божия раскрылась среди нас таким образом: Бог послал Своего Единородного Сына в мир, чтобы мы могли жить через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего быть искупительной Жертвой за наши грехи. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы также должны любить друг друга» (1 Ин 4:8–11 NRSV). Это диахроническое основание христианской нравственности.
В 418 г. в Карфагене был созван Поместный Собор для того, чтобы осудить учения Пелагия и Целестия3. Решения этого собора были включены в канонический сборник африканской Церкви Проконсуларис, который в свою очередь был переведен на греческий язык и включен в византийский corpus canonum. Это некоторые из наиболее эксплицитных текстов, имеющих отношение к богословской антропологии в византийской канонической традиции.
Я начну свою презентацию с анализа того, как эти антипелагианские каноны интерпретировались в византийской канонической традиции в византийской эпитоме канонов и комментариях классических византийских канонистов: Аристина, Зонары и Вальсамона.
Относящиеся к рассматриваемой теме правила Карфагенского Собора сведены вместе в византийской эпитоме следующим образом4:
Правило 109. Тот, кто верит, что первозданный человек умер бы, даже не согрешив, по естественной необходимости, да будет анафема5.
Правило 110. Тот, кто говорит, что крещеные младенцы ничего не привлекают от греха Адама, от которого они должны быть очищены крещением, проклят. Ибо через одного человека смерть и грех вошли во весь мир (ср. Рим 5:12)6.
Правило 111. Тот, кто верит, что благодать Божия только прощает грехи, которые мы совершили, но не помогает в будущем, дважды проклят7.
Правило 112. Тот, кто говорит, что благодать Божия только помогает нам знать, что мы должны делать и чего следует избегать, но не помогает нам любить то, что мы знаем, и быть способными делать это, да будет анафема8.
Правило 113. Тот, кто проповедует, что мы даже без благодати можем соблюдать заповеди, хотя и с большим трудом, трижды проклят. Ибо Господь говорит: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин 15:5)9.
Правило 114. Тот, кто неверно истолковывает, что [Иоанн] Богослов сказал: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя» (1 Ин 1:8) как сказанное не по истине, а по смирению, да будет анафема10.
Правила 115 и 116. Тот, кто извращает значение «Остави нам долги наши» как сказанное о множестве, а не о самом человеке, да будет анафема. Ибо он видит Даниила вместе со множеством говорящего: «Я исповедал свои грехи и грехи моего народа» (Дан 9:20)11.
Вот как византийские канонисты собрали вместе эти решения в византийской эпитоме канонов. Теперь обратимся к интерпретации этих канонов классическими канонистами.
Аристин интерпретирует 109-е и 113-е правила вместе и утверждает, что они осуждают мнения Пелагия, Целестина, Нестория, манихеев и их единомышленников. Иначе говоря, он только перефразирует эти каноны в своей интерпретации12.
Аристин начинает свой комментарий к 114-му правилу, говоря, что мы все во грехах и никто не чист от скверны, даже и одного дня в своей жизни13. Он оканчивает комментарий словами, что тот, кто говорит, что он без греха, заблуждается и обманывается. Аристин ничего не добавляет к своему комментарию к 115-му и 116-му правилам, который просто расширяет эпитому ссылкой на оригинальный текст канонов14.
Зонаре есть что сказать в своей интерпретации этих канонов и Вальсамон в основном повторяет его дословно.
Комментарий Зонары к 109-му правилу интересен, так как он интерпретирует осуждение Пелагия и Целестина с точки зрения богословия творения, восходящего к св. Иринею15. Он говорит, что Бог не сотворил Адама смертным или бессмертным, но поместил его между величием и уничижением и создал его со свободной волей, чтобы он мог склониться либо к добродетели, либо к пороку, чтобы унаследовать бессмертие или смертность. Зонара продолжает говорить, что св. Григорий Богослов объясняет, что кожаные ризы, которые Бог дал Адаму после грехопадения, являются символом страстного и смертного тела, которое Адам получил после падения в противоположность бесстрастному и бессмертному телу, которое он имел до грехопадения.
Подводя итог, можно сказать, что человеческая природа до грехопадения понимается как бесстрастная и как имеющая возможность и бессмертия, и смертности, тогда как падшая человеческая природа — смертная и подверженная страстям. Кроме того, нравственная жизнь по существу понимается как выбор между добродетелью и пороком (т. е. этика добродетели), а не как выполнение обязательств (т. е. деонтоло-гическая этика).
Зонара начинает свой комментарий к 110-му правилу, утверждая, что некоторые говорят, что младенцы крестятся не во оставление грехов, так как они не могут грешить или различать добро и зло16. Собор анафематствует это и говорит, что младенцы получают нечто от прародительского греха Адама, от которого они очищаются в крещении. Библейским основанием для этого тезиса является (Рим 5:12): «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и поэтому смерть распространилась на всех, потому что все согрешили». Хотя Зонара принимает несколько расплывчатую концепцию до-личного первородного греха, он также признает, что способность совершать действительно личные грехи требует использования разума и способности различать добро и зло.
Зонара трактует 111-е и 112-е правила вместе17. Его комментарий лишь немного расширяет смысл этих правил. Он говорит, что благодать крещения дается не только для прощения уже совершенных грехов, но и дает нам способность не грешить, хотя из-за беспечности мы и отдаем себя грехам. Кроме того, благодать дает нам не только знание о том, что делать и чего избегать, но также любовь к добру и добродетели и способность делать добро. Зонара ссылается на те же библейские основания, что и канон: «любовь от Бога» (1 Ин 4:7) и «знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор 8:1). Следует отметить, что хотя сам канон не объясняет, почему мы все еще совершаем грехи, несмотря на благодать крещения, Зонара объясняет, что это происходит из-за беспечности.
Зонара объясняет, что 113-е правило осуждает тех, кто считает, что благодать только облегчает соблюдение заповедей, но так как Бог сотворил нас со свободной волей, мы можем с большим трудом соблюдать заповеди самостоятельно18. Библейским опровержением этого мнения является «Без Меня не можете делать ничего» (Ин 15:5).
114-е правило интерпретирует отрывок из Священного Писания «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя» (1 Ин 1:8). Интересно отметить, что Зонара ссылается на библейскую цитату, которая не упоминается в данном каноне: «Во грехе моя мать родила меня» (Пс 50:7 LXX)19. Зонара объясняет, что если бы закон не защищал брак, половое сношение, даже если оно совершается для зачатия детей, считалось бы грехом, так как к нему привело плотское желание. Он продолжает и говорит, что причиной рождения является желание плоти тел и все рождаются таким образом.
Подытоживая, можно сказать, что, так как плотское желание и страсти принадлежат падшей человеческой природе и половые отношения являются выражением плотского желания, все люди рождаются из-за греха и, следовательно, вовлечены в грех. Только институт брака защищает половые отношения от вины за грех.
Зонара (и Вальсамон, который дословно повторяет его) отличаются в своей интерпретации этого канона от Аристина, который объясняет, что библейский отрывок относится к тому факту, что никто не чист от скверны, так как мы совершаем грехи каждый день своей жизни20.
Зонара и Вальсамон просто перефразируют 115-е и 116-е правила, касающиеся молитвы Господней21.
Утверждение Зонары о браке в его интерпретации 114-го правила Карфагенского Собора делает уместным посмотреть, что еще он может сказать о браке22. Очевидным местом для рассмотрения является его комментарий к 1-му правилу Гангрско-го Собора, который гласит в византийской эпитоме: «Анафема тому, кто отвергает законный брак». Зонара ссылается: «Брак у всех да будет честен и брачное ложе непорочно» (Евр 13:4); «через лицемерие лжецов, чья совесть сожжена раскаленным железом. Они запрещают вступать в брак и требуют воздерживаться от пищи, которую Бог сотворил и т. д.» (1 Тим 4:2–3); и «Для чистых все чисто, а для нечистых и неверующих нет ничего чистого. Их ум и совесть развращены» (Тит 1:15).
Вальсамон также отсылает читателя к 51-му правилу Святых Апостол, которое в византийской эпитоме гласит: «Каждый клирик, который удаляется от вина, мяса и брака по любой другой причине, кроме аскетизма, если не исправится, извержен»23. Зонара объясняет, что вино, мясо и брак не являются гнусными, так как они от Бога24. Все, что исходит от Бога, не является злом, хотя злоупотребление этими вещами является гнусным. Вальсамон пишет независимый комментарий, в котором он критикует богомилов25.
Рассуждения Зонары и Вальсамона можно суммировать так: Божье творение является благом и отвергать творение богохульно, но можно воздерживаться от хороших вещей в творении в качестве аскетической практики до тех пор, пока не происходит отвержения их как таковых; однако злоупотребление сотворенными вещами является недопустимым, хотя сами по себе вещи хороши. Правильное использование творения относится к добродетели.
Византийская каноническая традиция основывается на этике добродетели, но какое отношение имеют правила к добродетели? Самый простой способ исследовать взаимоотношения между правилами и добродетелью — это исследовать, что происходит, когда люди не следуют правилам, а именно использование епитимий в священных канонах.
Locus classicus, касающейся применения епитимий в византийской канонической традиции является 102-е правило Трулльского Собора. Византийская эпитома гласит: «Качество греха должно рассматриваться во всех аспектах, и ожидаемое обращение кающегося; а затем отмерить милосердие»26.
Фактический текст канона направлен к тем, кто имеет власть решить и вязать (т. е., епископам согласно Зонаре и Вальсамону), и описывает грех как болезнь, а епи-тимию как лекарство27. Грешник описывается одновременно как потерянная овца, которую нужно привести обратно, и как больной человек, который должен быть исцелен. Канон предписывает, чтобы лечение было приспособлено к кающемуся. Зонара отмечает, что расположение кающегося является наиболее важным при измерении милосердия и приспособлении предписанных епитимий к ситуации кающегося28.
Аристин говорит, что отцы оставили это на суд тех, кто получил от Бога власть вязать и решить, чтобы предписывать епитимию за каждый грех29. Он делает акцент на том, что целью епитимии является исцеление кающегося и возвращение его во двор овчий.
В итоге: штрафные санкции, предписанные священными канонами, не понимаются как мстительные наказания и карающее правосудие, а скорее как целебные наказания и тонизирующее правосудие. Грех не понимается как невыполнение обязательства, а епитимия не является средством от невыполнения обязательства. Это не деонтологическое понимание христианской нравственности.
Но что представляют собой священные каноны? Канонисты размышляют о природе священных канонов в своем комментарии к 1-му правилу II Никейского Собора. Согласно тексту канона, каноны являются свидетельствами и руководствами, и различные тексты Ветхого Завета используются как библейские подтверждения авторитета этих свидетельств. Говорят, что Соборы и отцы, которые составляли каноны, были вдохновлены Святым Духом, который помогал им решать, что является целесообразным.
Зонара объясняет в своем комментарии к этому правилу, что «свидетельства» в Священном Писании обозначают предписания Господа, которые предлагают и свидетельствуют о том, как нам следует жить и как должны быть наказаны нарушители предписания Господа30. Он продолжает, что те, кто соблюдает каноны и упорядочивает свою жизнь в соответствии с ними, взращивают добродетель и богоугодны. Вальсамон говорит, что свидетельства являются заповедями Священного Писания, которые служат примером и свидетельствуют, как должны жить верующие31. В итоге: священные каноны — это богодухновенные свидетельства и примеры богоугодного образа жизни, который взращивает добродетель.
Подводя итоги, следует отметить, что богословская антропология классических византийских канонистов полагает, что смертность, страсти и похоть являются результатом первородного греха, который определяет падшую человеческую природу. В первозданном состоянии человеческая природа была потенциально бессмертной и свободной для выбора между добродетелью и пороком, но с помощью благодати человеческая личность все еще может взращивать добродетель в падшем состоянии.
Это перекликается с богословской антропологией св. Иоанна Дамаскина, который описывает образ Божий в человеческой личности как разум и свободную волю, тогда как подобие Божие — это совершенство добродетелей настолько, насколько это возможно для человеческой личности32.
Священные каноны понимаются как богодухновенные свидетельства и примеры нравственного облика, которые помогают человеку взращивать добродетель и жить богоугодной жизнью; однако, человеческая слабость делает грех в действительности неизбежным, но епитимия понимается как лекарство от греха, который препятствует взращиванию добродетели.
Избранная литература для дальнейшего чтения
-
1. Barton J. Ethics in Ancient Israel, 2014.
-
2. Bourke V. History of Ethics Vol. 1: Graeco-Roman to Early Modern Ethics, 1968.
-
3. Calhoun G. M. Greek Legal Science, 1944.
-
4. Donovan J. M. Legal Anthropology: An Introduction, 2008.
-
5. Ferme B. E. Introduction to the History of the Sources of Canon Law: The Ancient Law up to the Decretum of Gratian, 2007.
-
6. Harrison N. V. God’s Many-Splendored Image: Theological Anthropology for Christian Formation, 2010.
-
7. Hartmann W., Pennington K. , eds. The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, 2012.
-
8. Hecht N. S. et al., eds. An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, 1996.
-
9. Jones W. J. The Law and Legal Theory of the Greeks: An Introduction, 1956.
-
10. Kelly J. N.D. Early Christian Doctrines. 5th ed., 1977.
-
11. Knuuttila S. Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, 2004.
-
12. Kunkel W., Schermaier M. Römische Rechtsgeschichte. 14th ed., 2005.
-
13. MacIntyre A. A Short History of Ethics, 1967.
-
14. North H. Sophrosyne: Self-knowledge and Self-restraint in Greek Literature, 1966.
-
15. Nutton V. Ancient Medicine, 2004.
-
16. Pinckaers S. The Sources of Christian Ethics, 1995.
-
17. Rodopoulos P. An Overview of Orthodox Canon Law, 2007.
-
18. Russell N. The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, 2004.
-
19. Schulz F. History of Roman Legal Science, 1967.
-
20. Troianos S. Die Quellen des byzantinischen Rechts, 2017.
Список литературы Перевод статьи Давида Хейт-Стадэ "Богословская антропология и восточная православная каноническая традиция"
- Barton J. Ethics in Ancient Israel, 2014.
- Bourke V. History of Ethics Vol. 1: Graeco-Roman to Early Modern Ethics, 1968.
- Calhoun G.M. Greek Legal Science, 1944.
- Donovan J. M. Legal Anthropology: An Introduction, 2008.
- Ferme B. E. Introduction to the History of the Sources of Canon Law: The Ancient Law up to the Decretum of Gratian, 2007.
- Harrison N.V. God's Many-Splendored Image: Theological Anthropology for Christian Formation, 2010.
- Hartmann W., Pennington K, eds. The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, 2012.
- Hecht N.S. et al, eds. An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, 1996.
- Jones W.J. The Law and Legal Theory of the Greeks: An Introduction, 1956.
- Kelly J.N.D. Early Christian Doctrines. 5th ed., 1977.
- Knuuttila S. Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, 2004.
- Kunkel W., Schermaier M. Römische Rechtsgeschichte. 14th ed., 2005.
- Maclntyre A. A Short History of Ethics, 1967.
- North H. Sophrosyne: Self-knowledge and Self-restraint in Greek Literature, 1966.
- Nutton V Ancient Medicine, 2004.
- Pinckaers S. The Sources of Christian Ethics, 1995.
- Rodopoulos P. An Overview of Orthodox Canon Law, 2007.
- Russell N. The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, 2004.
- Schulz F. History of Roman Legal Science, 1967.
- Troianos S. Die Quellen des byzantinischen Rechts, 2017.