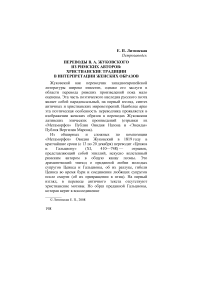Переводы В. А. Жуковского из римских авторов: христианские традиции в интерпретации женских образов
Автор: Литинская Е.П.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.8, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию женских образов в переводах В. А. Жуковского отрывков из «Метаморфоз» Овидия («Цеикс и Гальциона», XI, 410—748) и «Энеиды» Вергилия («Разрушение Трои», вторая песня). Римские героини: Гальциона, Креуза, Гекуба — античные женщины в понимании русского поэта, они становятся романтическими героинями, основными чертами которых являются одухотворенность, глубина и сила чувств. Христианское понимание любви (духовная, возвышенная, не связанная с преходящим, земным) ложится в основу интерпретации языческих образов римской литературы.
В. а. жуковский, вергилий, овидий, романтизм, христианство, женский образ, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/14749226
IDR: 14749226
Текст статьи Переводы В. А. Жуковского из римских авторов: христианские традиции в интерпретации женских образов
Жуковский как переводчик западноевропейской литературы широко известен, однако его заслуги в области перевода римских произведений пока мало оценены. Эта часть поэтического наследия русского поэта являет собой парадоксальный, на первый взгляд, синтез античных и христианских мировоззрений. Наиболее ярко эта поэтическая особенность переводчика проявляется в изображении женских образов в переводах Жуковским латинских эпических произведений (отрывки из «Метаморфоз» Публия Овидия Назона и «Энеиды» Публия Вергилия Марона).
Из обширных и сложных по композиции «Метаморфоз» Овидия Жуковский в 1819 году в кратчайшие сроки (с 13 по 20 декабря) переводит «Цеикса и Гальциону» (XI, 410—748) — отрывок, представляющий собой эпиллий, искусно вплетенный римским автором в общую канву поэмы. Это драматический эпизод о преданной любви молодых супругов Цеикса и Гальционы, об их разлуке, гибели Цеикса во время бури и соединении любящих супругов после смерти (об их превращении в птиц). На первый взгляд, в переводе античного текста отсутствуют христианские мотивы. Но образ преданной Гальционы, которая верит в воссоединение ________
с супругом даже вопреки смерти, гармонично вписывается в христианское осмысление проблемы смерти—бессмертия.
Перевод Жуковского из «Энеиды» Вергилия был сделан с латинского подлинника1 в течение двух месяцев, мае—июне 1822 года. Из многих тысяч стихов поэмы Жуковский выбрал вторую песню. Она посвящена драматическим событиям падения Трои: повествованию о роковом «деревянном» коне, о лжи и коварстве данайцев, «дары приносящих», о сожжении Трои и божественном спасении Энея. Как видим, латинский текст дает широкое поле для проработки темы смерти. Следуя канонам жанра, Жуковский перевод героического эпоса не насыщает сентиментально-романтическими мотивами. Но повествование во многих случаях психологизируется, образы усложняются.
В очевидно христианском контексте русский поэт интерпретирует женские образы. Так, Гекуба, видя падение Трои, обращаясь к супругу Приаму, восклицает: «Умрем неразлучны »2 (519), тогда как в латинском тексте просто «moriere simul»3 — вместе умрем (524).
Один из самых поэтических образов в «Разрушении Трои» — это, конечно, тень погибшей Креузы, жены Энея. Перевод сцены с Креузой, умоляющей Энея не покидать их. Латинскую фразу: ‘si periturus abis, et nos rape in omnia tecum’ (675) (если ты долженствующий умереть решил уйти, и нас возьми во все с собой) Жуковский интерпретирует в любимом ключе: «Если себя на погибель Ты осудил — да погибнем с тобой и мы неразлучны» (664—665). Креуза вторит Гекубе, таковы античные женщины в понимании поэта-романтика. В эту фразу он вложил все свое сердце, всю свою душу, ибо это было его самым заветным
Библиотеки Жуковского приходит к выводу, «что при работе над "Разрушением Трои" русский поэт держал перед глазами немецкий перевод II книги "Энеиды", сделанный Шиллером» (Дерюгин А. А. В. А. Жуковский — переводчик римских поэтов // Переводоведение и культурология: цели, методы, результаты. М., 1987. С. 143).
-
2 Цит. по: Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 252—273. В тексте подчеркиваются слова, отсутствующие в подлиннике или переданные с изменением. В скобках указывается цитируемая строка.
-
3 Цит. по: P. Vergili Maronis. Aeneis / Rec. О. Ribbeck. Lipsiae: Teubner, 1886. C. 19—50. В скобках указывается цитируемая строка. Курсивом выделен подстрочный перевод.
199 желанием: быть вместе с любимым человеком и на земле, и на небе. Словосочетание «deserta Creusa» (562) (покинутая Креуса) — «я вспомнил о сирой Креузе»4 (555).
Жуковский не мог не добавить к образу преданной, любящей Креузы своих печально-романтических черт:
Вдруг перед очи мои появилася призраком, легкой
Тенью она... и казалась возвышенней прежнего станом.
Я ужаснулся, волосы дыбом , голос мой замер.
Тихо с улыбкой, смиряющей душу , сказала Креуза.
(762—765)
Не томи ж по Креузе утраченной сердца .
Смолкла и тихо со мной, проливающим слезы, рассталась; Много хотел я сказать, но она улетела : трикраты Я за летящую тению руки простер, и трикраты
Легкая тень из напрасно объемлющих рук ускользнула, Словно как веющий воздух, словно как сон мимолетный .
(780—785)
У Вергилия образ Креузы материален. Жуковский же живописует легкую, практически невидимую тень, призрак, нежно любимый, появившийся на земле только на миг, вот-вот готовый улететь, раствориться в воздухе. Для этого он вводит отсутствующие в оригинале слова и сочетания: «призраком», «летящую тению», «легкая тень», «объемлющих рук», «словно как веющий воздух, словно как сон мимолетный». В этих строках поэт выразил свое душевное томление, излил вечную боль сердца. Он всегда верил в чистую любовь, в Промысел, в бессмертие, светлое и святое. Позднее, в 1823 году, Жуковский пишет стихотворение на смерть Маши Протасовой — «вечной любви поэта»6, в котором развивает этот же образ, но в исключительно _______
Ты предо мной
Стояла тихо.
Твой взор унылый Был полон чувства. Он мне напомнил О милом прошлом... Он был последний На здешнем свете. Ты удалилась, Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
Там все земные Воспоминанья, Там все святые О небе мысли. Звезды небес, Тихая ночь!..6
Античный «призрак, легкая, летящая тень» Креузы становится христианским «тихим ангелом». Необходимо отметить неоднократное использование поэтом (как при переводе текста Вергилия, так и при создании собственного оригинального стихотворения) различных форм лексемы «тихий»7. Креуза «тихо... сказала», «тихо... рассталась»; героиня лирического стихотворения «стояла тихо», «тихий» ангел, «тихая» ночь. Для поэта тишина, спокойствие, умиротворение, наконец рай, тождественны смерти.
отмечает
Гораций (sat. 1, 10, 44 сл.) метко подчеркнул «нежное и остроумное» (molle atque facetum) в его (Вергилия. — Е. Л.) даровании; однако у Вергилия есть острое чувство драматического, трагическое мироощущение, которое — проявляясь местами в раннем творчестве — с полной силой, разворачивается в Энеиде 8 .
Жуковский как талантливый поэт и переводчик сумел прочувствовать, пережить и мастерски воспроизвести эту особенность поэзии латинского поэта.
Гальциона, Креуза, Гекуба — таковы античные женщины в понимании русского поэта, они становятся романтическими героинями, основными чертами которых являются одухотворенность, глубина и сила чувств.
Христианское понимание любви (духовная, возвышенная, не связанная с преходящим, земным) ложится в основу интерпретации языческих образов римской литературы.
_______
Список литературы Переводы В. А. Жуковского из римских авторов: христианские традиции в интерпретации женских образов
- Дерюгин А. А. В. А. Жуковский -переводчик римских поэтов//Переводоведение и культурология: цели, методы, результаты. М., 1987. С. 143
- Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 252-273.
- P. Vergili Maronis. Aeneis/Rec. О. Ribbeck. Lipsiae: Teubner, 1886. C. 19-50.
- Ожегов В. Толковый словарь живаго великорусского языка. М., 1882. Т. IV. С. 188
- Жуковский В. А. Письма. Отрывки из дневников//Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12 т./Под ред. проф. А. С. Архангельского. СПб., 1902. Т. XII. С. 71-72
- Жуковский В. А. Собр. соч.: В 20 т. Т. 1. С. 365.
- Альбрехт М. фон. История римской литературы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004. С. 736.