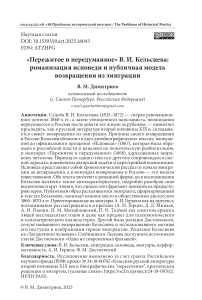«Пережитое и передуманное» В. И. Кельсиева: романизация исповеди и публичная модель возвращения из эмиграции
Автор: Димитриев В.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Судьба В. И. Кельсиева (1835–1872) — сперва революционного деятеля 1860-х гг., а затем убежденного панслависта, неожиданно вернувшегося в Россию после девяти лет жизни за рубежом, — позволяет проследить, как в русской литературе второй половины XIX в. складывается сюжет возвращения из эмиграции. Причины своего возвращения в Россию Кельсиев объяснил в двух автобиографических текстах: написанной до официального прощения «Исповеди» (1867), которая была обращена к российской власти и нацелена на политическую реабилитацию, и мемуарах «Пережитое и передуманное» (1868), адресованных широкому читателю. Переход от одного текста к другому сопровождался сменой адресата, изменением прагматики и способов композиционного оформления. Исповедь представляет собой хронологический рассказ от начала эмиграции до возвращения, а в мемуарах возвращение в Россию — это начало повествования. Оба текста тяготеют к романной форме, но в воспоминания Кельсиев включил также автохарактеристику, подробно разобрав свое воспитание и круг чтения, что сделало этот фрагмент похожим на предысторию героя. Публичный образ раскаявшегося эмигранта, сформированный в текстах Кельсиева, занимает важное место в общественных дискуссиях 1860–1870-х гг. Ориентированные на мемуары А. И. Герцена как на претекст, воспоминания рассматриваются в критике (А. И. Герцен, Д. Д. Минаев, А. Н. Пыпин, Н. М. Михайловский, П. Н. Ткачев) как симптом кризиса людей шестидесятых годов и даже как предмет для психологического и психиатрического анализа героя. Другой была реакция Достоевского, сочувствовавшего возвращению Кельсиева и использовавшего мотивы его поступка в изображении героев-эмигрантов. Рецензия Кельсиева на «Загадочного человека» Стебницкого-Лескова послужила источником статьи Достоевского «Одна из современных фальшей».
В. И. Кельсиев, эмиграция, исповедь, мемуары, перформативность, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/147252381
IDR: 147252381 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043
Текст научной статьи «Пережитое и передуманное» В. И. Кельсиева: романизация исповеди и публичная модель возвращения из эмиграции
В литературной и интеллектуальной истории В. И. Кельсиев (1835–1872) известен прежде всего как революционный деятель и политический эмигрант герценовского круга1, издатель старообрядческой литературы и автор путевых очерков о русских и славянских колониях на Балканах и в Османской империи ([Кленовский], [Гросул], [Соловьев, 2010, 2011]). Его имя также упоминается в контексте творчества Н. С. Лескова2 и Ф. М. Достоевского. Еще А. С. Долинин предположил, что Кельсиев, ставший из революционера панславистом, мог послужить одним из прототипов Шатова в «Бесах», а описанный им эмигрант П. И. Краснопевцев — прототипом Кириллова [Достоевский; т. 12: 231–233]. Недавние исследования акцентируют внимание на путевых очерках Кельсиева о Галичине и Молдавии [Кравчук], а также на его участии в революционных событиях 1860-х гг., важных для истории «Бесов» [Тарасова]. Однако как самостоятельный писатель он воспринимается редко. Хотя его поздние беллетристические опыты не вызвали интереса у публики (см. об этом: [Соколов]), литературное наследие Кельсиева, от переводов и публицистики до мемуаров, повестей, исторической прозы и замыслов фантастических произведений, заслуживает внимания.
На оригинальность литературного таланта Кельсиева едва ли не первым указал Л. Н. Чертков в статье «Между Гофманом и Герценом — Василий Кельсиев» (1978), отметив его глубокую вовлеченность в мистико-романтическую традицию, которую он пытался соединить сначала с революционными идеалами, затем — с панславистской программой, интерес к которой во многом вытекал из занятий расколом [Tchertkov].
Но центральным эпизодом биографии Кельсиева, послужившим главной причиной интереса общественности к нему, стало покаянное возвращение в Россию 20 мая 1867 г. Прибыв на Скулянскую таможню в Бессарабии, он попросил ареста как неосужденный государственный преступник. Из заключения в Кишиневе Кельсиев направил письмо шефу жандармов П. А. Шувалову с просьбой передать его дело III Отделению, обещая предоставить сведения о своей впечатляющей эмигрантской одиссее: из Лондона до Молдавии и Валахии. Вскоре его этапировали в Петербург, где, по согласованию с тайной полицией, он составил записки («Исповедь»), прочитанные Александром II в августе того же года. Император даровал ему полное прощение, вернул права состояния и выдал разрешение проживать в столице.
Уже в 1868 г. был опубликован мемуарный текст «Пережитое и передуманное», выстроенный на том же материале, что и «Исповедь» Кельсиева, но предназначенный для широкой публики. Если первый текст был ориентирован на власть и имел прагматическую цель, то второй предлагает литературную интерпретацию пройденного пути, переосмысленную со сменой адресата.
В этих двух сочинениях можно наблюдать процесс постепенной романизации, к элементам которой следует отнести композиционное оформление (хронологическое — в исповеди и ретроспективное — в мемуарах), включение в мемуары экспозиции героя (описания круга чтения и воспитания) и др. В обоих случаях рассказ идет о разных этапах впечатляющей кельсиевской жизни: работе в кругу Герцена, Огарева и Бакунина, попытках революционной пропаганды среди старообрядцев и изучении связанных с ними материалов, революционной деятельности в Европейской Турции, включающей организацию «Общего вече» (приложения к «Колоколу»). Автор описывает отношения с новоприбывшими представителями «молодой эмиграции» и попытки организации русской революционной колонии в Тульче вместе с М. С. Чайковским, И. И. Кель-сиевым, авантюрную поездку в Россию по турецкому паспорту в 1862 г., личные трагедии и разочарования, поездку в Вену, путешествия по Галичине и Молдавии и свою сдачу правительству. Но в «Исповеди» уклон делается на информативную часть (там больше деталей и конкретных имен), а в мемуарах — на экспрессивную (преобладают впечатления и рассуждения, а также добавляются главы о времени, предшествующем эмиграции).
Настоящая статья ставит задачу проследить формирование двойной прагматики кельсиевских текстов, политической и литературной, и показать, как их исповедально-мемуарная структура создает публичный образ раскаявшегося эмигранта. Нас интересует, как этот образ был воспринят в критике и использован в прозе и публицистике Достоевского.
Прагматический смысл написания «Исповеди» был сформулирован еще в предваряющем письме к Шувалову:
«Что меня ждет, граф? Я злого ни России, ни правительству ровно ничего не сделал… Я х о т е л сделать, я делал попытки, я трудился, но все было н а п р а с н о, теории мои были неприменимы к практике, и я только воду толок. <…> если правительство мне дозволит, я бы охотно написал и напечатал некоторые эпизоды из моих агитаторских похождений, в поучение юношам, садящимся не в свои сани»3.
Собственная биография переосмысляется Кельсиевым через поворот к покаянию:
«Из юноши, <…> сделавшегося революционным агитатором и организатором, я превратился в горячего верноподданного…» ( Исповедь : 266).
Будущие записки должны не только сообщить факты, но и восстановить правовой и социальный статус его автора4. Кроме того, Кельсиев уже на этом этапе, за жандармом как прямым адресатом, угадывает и широкую аудиторию — «юношей», которых готовится поучать.
Выстраивая повествование в перспективе чужого взгляда, Кельсиев подбирает формулировки, заранее подсказывающие, как его самого можно разоблачить. Он объясняет свой уход в эмиграцию общим настроением «русской молодежи», а собственную радикализацию — незнанием жизни: «Жизнь я вел в Петербурге кабинетную, сведения и теории мои были почерпнуты из книжек и из рассказов таких же юношей…». Свои занятия восточными языками он тоже интерпретирует как препятствие к пониманию «действительной жизни и общественных отношений» ( Исповедь : 269). Себя он неустанно презентует как человека, который «ничем так не интересовался, как всем загадочным, вычурным, таинственным» ( Исповедь : 286). С тягой к таинственному он связывает все свои решения, притом относится к ней двояко: она приводит его к революционным утопиям, и она же вдохновляет интересоваться старообрядчеством, Европейской Турцией и Галичиной, противопостав ляя его «кабин етным реформаторам» ( Исповедь : 394–395).
Один из центральных эпизодов «Исповеди» — кризис 1863 г., связанный с польским восстанием 1863–1864 гг., и последовавшая за этим реакция. Растерянность эмигрантов, рост националистических настроений в России и сомнение в действенности революционной практики после новых судебных процессов (в частности, начала знаменитого «процесса 32-х») подталкивают Кельсиева к пересмотру убеждений:
«Очевидно со дня на день становилось, что наши чистые и честные верования были утопией, неприложимой к делу теорией, <…> черные думы не унимались, а одна за другой возникали в уме, как какие демоны, явившиеся мучить мою душу» ( Исповедь : 369).
Ни увещевания Герцена, ни сторонние занятия не способны его отвлечь:
«Я метался от книги от книги, я магию даже стал изучать, спиритизм; я цареградские трущобы стал исследовать <…> ничто не брало» ( Исповедь : 369).
Кельсиев утверждает, что с этого момента отказался от антиправительственной деятельности, хотя это противоречит его дальнейшей биографии (см.: [Гросул: 160–163 и далее]).
Поворотным моментом становится и личная трагедия: в 1864–1865 гг., во время жизни в Тульче и Галаце, трагически умирают его брат, дети и жена. В «Исповеди» он отмечает, что именно смерть брата побудила его к писательству. Первым результатом стал не дошедший до нас дневник, который, по его словам, представлял собой полное отрицание прежних идей, «страшное по пустоте, которую оно оставляло на месте разбитых идеалов». Кельсиев не скупится на гиперболы:
«…даже поэзия своего рода была, и поэзия сильная; у меня желчь от бешенства клокотала, сарказм сменялся сарказмом; проклятие миру, его законам, людям, жизни и смерти, небу и аду кипело на каждой строке, и мои товарищи в Тульче в ужас приходили, когда я им читал эти вдохновенные строки <…>. Дарование вспыхнуло… » ( Исповедь : 387)5.
Еще более мрачные интонации «Исповедь» приобретает в описании периода, последовавшего за смертью детей и жены:
«Давиться не стоило того, потому что бежать было не от чего, но и жить было не для чего, потому что не к чему было стремиться. <…> Я был зверь, а не человек; мне было все равно, что делать и как делать, только бы с голоду не умереть <…>. И я спустился в потемневший город, импровизируя страшную песню, песню отчаяния, которую я пел целую эту зиму 1865/66 г.» ( Исповедь : 398).
В письмах этого периода к Герцену и Огареву он признавался:
«С жизнью у меня, очевидно, покончено — я вольная птица, отпетый человек, я из рода людского выэмигрировал»6.
При возвращении Кельсиеву чудится возможность писать о новых убеждениях открыто, а не «только намеками, недомолвками». Свою миссию он видит ни больше ни меньше как сделать собственный опыт «достоянием всего читающего мира»:
«Я, некогда один из светочей и надежд этой оппозиционной молодежи, деятельнейший и отважнейший из русских эмигрантов, разве не отрезвлю я моих товарищей и поклонников открытым обличением наших утопий? <…> Кто ж из русских публицистов может сравняться со мной в борьбе с утопистами и с поляками? Кто из них знает этот мир не понаслышке, не по догадкам, не по натянутым выводам из арестантских показаний?» ( Исповедь : 411).
Такая весьма красноречивая самореклама должна теперь подсказать, как применить его новые таланты, а сама исповедь — как именно его обличить. Эти доводы оказались действенными: Александр II признал, что Кельсиев «по своим познаниям <…> может быть с пользою употреблен правительством» (цит. по: [Кленовский: 259]).
Заключительная часть «Исповеди» посвящена сдаче Кель-сиева на Скулянской таможне:
«— Да в чем же вы себя обвиняете?‥ — Эмигрант, политический преступник, у меня пропасть вин. — Странно. Что ж вас побуждает сдаться? — Раскаяние и желание загладить прошлое» ( Исповедь : 416).
Страстная натура Кельсиева ожидала кандалов ( Исповедь : 416), а получила бюрократический процесс, который рисковал затянуться, но с письмом Шувалову завершился с рекордной скоростью.
«Исповедь» построена линейно: она охватывает путь от деятельности в Лондоне, переходит к описанию тайной поездки в Россию 1862 г., работе в Константинополе, пребыванию в Тульче, Галаце, Вене, Венгрии, Галичине, Молдавии и Валахии и, наконец, к сдаче правительству.
На ее основе Кельсиев создал мемуары «Пережитое и пере думанное» (186 8), адресованные широкой аудитории8. Название
«Пережитое и передуманное» отсылало к «Былому и думам» Герцена и воспринималось современниками как намеренная аллюзия и даже пародия:
«…г. Кельсиев, вероятно, вообразил, что всякая его болтовня, даже ученические опыты упражнений в слоге, обратят на себя внимание публики, особенно если он дает своей книге ловкое название " Пережитое и передуманное " (не прямая ли пародия на заглавие книги " Былое и думы "?) и приделает к каждой главе кричащие, эффектные заголовки»9.
При этом «передуманное» одновременно оказывается перифразом герценовских «дум» и намеком на «исправление» его ошибок, а также на перемену убеждений самого Кельсиева, который «передумал» быть революционером. В «Исповеди» и мемуарах он не раз сопоставляет себя с Герценом и Огаревым, с комической серьезностью указывая на их теоретичность и недостаток организаторских способностей, а похвалу таланту Герцена сопровождает легкой иронией:
«Ничего нельзя было поделать: оппозицию они создали, а сорганизовать ее не сумели. Проще выразиться — они были публицисты, а Герцен даже и очень талантливый, но им одних пустяков недоставало, — они не были г о с у д а р с т в е н н ы е л ю д и» ( Исповедь : 280)10.
Однако оппозиция между «пережитым» и «передуманным» укладывается и в устойчивую схему мемуарной традиции: рассказ чередует «поэзию и правду», личное и историче ское.
В отличие от «Исповеди», структура мемуаров двухчастная, части «Возврат» и «Пережитое» выстраивают повествование в обратном порядке — от возвращения в Россию к предшествующим событиям. Там, где «Исповедь» завершается, мемуары начинаются как публичное размышление над тем же материалом. Сперва демонстрируется результат, «преображение», а затем объясняется приведший к нему путь, что придает рассказу дополнительную драматизацию.
Мемуары завершаются самоубийством П. Н. Краснопев-цева, товарища Кельсиева по эмиграции. Погребение, где собираются эмигранты разных национальностей, символически оформляет композицию: спасение предшествует смерти, возвращение — изгнанию. В «Исповеди» Кельсиев — раскаявшийся сын отечества, готовый служить посредником между правительством и раскольниками, славянами в Османской империи или революционерами. В мемуарах он — гражданин, вернувшийся в лоно государства, который выступает драматургом собственной биографии, превращая рассказ о возвращении в историю о чудесном спасении («Возврат»), противопоставленную самоубийству Краснопевцева («Пережитое»).
В мемуарах Кельсиев доводит рассказ о своем преображении едва ли не до карикатуры:
«Мне было досадно чувствовать в себе эту перемену, мне горько было опять становиться р у с с к и м, но я не мог себя прео-долеть»11;
«Как? неужели? — думал я — я, достигший до крайних пределов отрицания, я, отвергший даже республику, даже социализм, даже знание, даже мысль, даже способность рода человеческого выделать из себя что-нибудь путное, <…> неужели я способен увлечься до патриотизма, до п а н с л а в и з м а?!!!» ( Пережитое и передуманное : 18);
«И мне было душно, и я боролся с собою, я старался подавить в себе этот странный прилив любви и родственного чувства — и ничего я н е мог с собою сделать!‥ Я был русский, я был горд
Россией, во мне родилась неудержимая страсть служить русскому государству…» ( Пережитое и передуманное : 19).
Можно предположить, что именно такие пассажи держал в голове Герцен, когда давал мемуарам следующую характеристику:
«…неотлагаемая потребность всенародной исповеди и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной в кающемся и прощенном развязностью…» [Герцен; т. 11: 329].
После первой части, посвященной заключению и возвращению (при этом упущены сведения о допросе, которые бы цензура, само собой, не пропустила12), Кельсиев переходит к размышлению о причинах появления революционной эмиграции «на русской почве». Он не стремится к исторической реконструкции, а предлагает акт публичного самоанализа:
«…каждый из нас <…> сделал бы лучше, если бы анализировал самого себя». «Дать подробный отчет себе и публике дело весьма нелишнее…» ( Пережитое и передуманное : 244).
Кельсиев делает самого себя предметом исследования — и это для него не случайно. Воспитанное «в духе нового времени», его поколение — «жертвы не столько нашего произвола, сколько этой самой истории» ( Пережитое и передуманное : 245). «Дух нового времени» и привел к тому, что Кельсиев «сделался эмигрантом потому, что не мог эмигрантом не сделаться. <…> …не только без всякой причины, не только без всякого внешнего толчка, но даже против советов и против желания редакторов "Колокола". <…> …время было такое, таким воздухом веяло» ( Пережитое и передуманное : 246–248). Автобиографический рассказ способен «разъяснить многое, что остается загадочным для нас самих» ( Пережитое и передуманное : 246).
Он анализирует культурные влияния, оформившие его мировоззрение. Детство прошло в атмосфере романтизированного декабристского мифа ( Пережитое и передуманное : 248), а сами декабри сты для Кельсиева, воспитанного «на литературе
Карамзинского периода, на "Сионском вестнике", на мистиках конца прошлого и начала нынешнего века», были не менее привлекательны «всяких графов С. Жермен, Калиостро, Пифагора…» ( Пережитое и передуманное : 250).
Его описание домашней библиотеки отца — каталог культурных авторитетов его детства:
«…тут были сочинения Карамзина, Пушкина, Державина, Сумарокова, Хераскова, Княжнина, митрополита Платона, "Сионский вестник", <">Детское чтение<">, "Старик везде и нигде", "Гросфильд-ское Абатство", "Удольфские таинства", "Жилблас", какие-то анекдоты Наполеона, "Житье Фридриха Великого", "Житье Екатерины Великой", "Деяния Петра Великого" Голикова, тут же был "Всеобщий стряпчий", "Пансальвин, князь тьмы"…» ( Пережитое и передуманное : 252).
Эти книги плохо сочетались с окружающим бытом, но литература «обаятельно отрешала <…> от всего окружающего» ( Пережитое и передуманное : 253).
По мере взросления героя прежняя романтическая картина мира дала трещину. «Разочарование, внесенное Байроном, привело нас к анализу Диккенса, к смеху Гоголя» ( Пережитое и передуманное : 254), — пишет Кельсиев. Он продолжает:
«Н а т у р а л ь н а я ш к о л а все крушила, все низвергала, она с первого дня своего рождения объявила, что прав нет, а что есть простые смертные, которые едят, пьют, нуждаются в деньгах, два раза в неделю обмываются одеколоном, ходят в вицмундире, сочиняют и переписывают отношения и т. п.» ( Пережитое и передуманное : 255–256).
Так складывается диалектическое движение — от поклонения «высокому и прекрасному» к критике всего возвышенного ( Пережитое и передуманное : 258), мечты «об невероятных путешествиях» наталкиваются на «неумолимый хохот Гоголя», «сам видишь свои недостатки <…>, потому что дался и усвоился аналитический метод, сам себя разбираешь, сам себя потрошишь…» ( Пережитое и передуманное : 259–260). В этой атмосфере возникает жажда тайного или сложнодоступного знания: редких книг по философии и метафизике, сведений о революциях 1848 г. ( Пережитое и передуманное : 262–263).
Раздваиваясь между верностью порядку и симпатией к бунту, Кельсиев сочувствовал одновременно и декабристам, и Луи-Филиппу ( Пережитое и передуманное : 264). Позже, узнав о петербургском заговоре 1849 г. (намекающем на петрашевцев), он вообразил заговорщиков «с длинными волосами, в шляпах, надвинутых на брови, в широких плащах с красной подкладкой, с кинжалами и с ядами…» ( Пережитое и передуманное : 265). Теперь он сочувствовал и им, чему способствовала литература (прежде всего романы Дюма), в которой героизм и преступление сливались в одно.
Поколение, воспитанное на уважении ко всему таинственному и необыкновенному, было одновременно приучено и к отрицанию, «психическому, а затем и к социальному анализу» ( Пережитое и передуманное : 269). Двойственность молодежи, основанная на романтической мечтательности и аналитическом отрицании при «полном невежестве общественной жизни», «полном незнании ее вопросов, при отсутствии всякой политической практики и опытных политических руководителей», стала, по его словам, «бочкой пороху», которой оставалось дождаться искры — Крымской войны ( Пережитое и передуманное : 268–269). В этом он видит истоки появления и революционных настроений, и эмиграции как следствия исторического давления и кризиса воспитания.
Объяснение собственной политической незрелости посредством круга чтения и культурных влияний вписывает Кельсиева в традицию литературы XVIII–XIX вв., одной из важнейших тем которой является литературная социализация героя. Русская литература выработала устойчивые модели чтения (см. об этом: [Чавдарова]), с помощью которых персонаж идентифицируется как читатель, а реальный читатель воспоминаний может соотнести себя с их автором. При этом социальный и психический анализ Кельсиева сравним с полемикой 1850-х гг. о «лишних людях» и с рассуждениями подпольного парадоксалиста Достоевского о крушении стремлений к «высокому и прекрасному».
Чтение здесь выступает моделью восприятия, формирующей поведенческие сценарии, — подобно тому, как А. И. Тургенев в конце XVIII в. искал модели эмоционального поведения, соответствующие образу поэта новой чувственности (см. об этом: [Зорин]). В неменьшей степени поиск поведенческих моделей характерен и для XIX в. Потоки активно переводимой и издаваемой зарубежной литературы, столь важной для Кель-сиева, формировали в нем одновременно способы отрешения от реальности и аналитический аппарат для сравнения собственной страны с зарубежными (если оставить за скобками то, что они создавали определенные образы читателей). Например, успех романов Вальтера Скотта, по наблюдению Дамиано Ре-беккини, знаменует перелом в читательской культуре 1820-х гг.: если сентиментальные и готические произведения побуждали читателя к отождествлению себя с героями, то Скотт предлагает иной тип чтения — основанный на дистанции между героем и читателем, на удовольствии убежать от повседневной скуки в миры далекие и минувшие. Через такие тексты русская публика училась сравнивать эти миры со своим и открывать собственную историю. Этот аналитический взгляд постепенно распространялся и на французский роман — от Поля де Кока до Бальзака, от Эжена Сю до Дюма и Жорж Санд, чьи книги приучали российских читателей к восприятию новых ценностей и форм поведения, прежде чуждых русскому обществу [Rebec-chini: 103–104].
В русской литературе XIX в. описание читательских привычек героев становится важным способом их характеристики. Пушкин, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Чернышевский — все они используют сцены чтения или описание круга чтения, чтобы раскрыть персонажей: от Онегина и Татьяны до Рудина, Макара Девушкина, Степана Трофимовича или Веры Павловны. Эти сцены формируют восприятие героя и предлагают поведенческую модель, создавая связь между тем, что герой читает, и тем, как он действует (см.: [Бочаров]).
В 1860-е гг. это осознается с особенной силой: «Для Чернышевского и его последователей в 1860-е годы литература была "учебником жизни", книга была призвана активно вторгаться в жизнь и ее формировать» [Паперно: 7]. Если литература 1840–1850-х гг. создает внутреннюю раздвоенность между романтическим идеалом и критическим отрицанием, то позднее возникает идея текста, способного стать предписанием к тому, как себя вести, и тем самым вернуть ощущение целостности.
В этом контексте становится понятна двойственная задача Кельсиева: в «Исповеди» он стремится описать то, как воображаемые миры, создаваемые тягой к таинственному, повлияли на его жизненные решения, тогда как в мемуарах он еще и сам претендует на роль «литературного образца» для подражания. Этой задаче соответствуют и его литературные амбиции. В письме Д. В. Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. он с дерзкой уверенностью пишет:
«Вот уже два года с лишком, что я пишу, пишу и пишу, и по моей специальности о сектах, и статьи по общим, преимущественно социальным и метафизическим вопросам. <…> Я уже не верую в радужные видения нигилистов, у меня нет упований <…>. Форма изложения у меня несколько мистическая, — я рассказываю невероятные анекдоты об открытии жизненного эликсира, о магии, о гномах, о жителях планеты Марс и т. п., но под этими аллегориями я ставлю вопросы о возможностях и о полезностях. Смешай воедино По, Гулливера, Герцена и Чернышевского, прибавь юмор Сервантеса и жёлчь Данте — и ты придешь к некоторому понятию о слоге и о содержании моих произведений (!). Как творец их, я скажу только, что в них много нового, и буде нет у нас теперь никого на место Чернышевского, то я без стыда занял бы это место в оборванной цепи русских мыслителей, начатой Белинским и теперь, кажется, не продолженной никем»13.
Эта самопрезентация является примером характерного для Кельсиева сочетания литературной маниакальности и искренней убежденности в своей особой миссии. Она напрямую связана с прагматикой мемуаров: они задумываются как морализаторский и просветительский проект, как предписывающий текст. Симпатий критиков такая позиция автора не вызывала:
«Г. Кельсиев говорит в своей книге все, что взбредет ему в голову, не жалея самого себя, не щадя терпения читателей»;
«Для чего писать на скорую руку и издавать такую книгу — эту арлекинаду незрелых рассуждений, юнкерских анекдотов и бездельной болтовни "о том, о сем, а больше ни о чем"?»14.
Ориентированность Кельсиева на тему истории чтения как способ самоанализа укладывается в общий литературный сдвиг 1860-х гг.: в автобиографических текстах теперь нередко демонстрируется, как литературный опыт может формировать личность. Мы видим это в «Былом и думах» А. И. Герцена, «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева, «Моих литературных и нравственных скитальчествах» Ап. Григорьева и др. (см. об этом: [Туниманов: 107–111 и далее]).
В итоге Кельсиев не просто рассказывает о себе — он стремится вписать себя в культурную генеалогию «читателей»: тех, кто формируется под воздействием литературных образцов и впоследствии сам становится объектом чтения.
Реакции современников на публикацию воспоминаний Кельсиева варьируются от сочувствующего, но ироничного взгляда на них Герцена до едва ли не психиатрических диагнозов, поставленных автору Пыпиным и Михайловским, и до отповеди П. Н. Ткачева.
Герцен, бывший соратник по эмиграции, воспринял возвращение Кельсиева прежде всего как личную драму. Его тревожило, что этот поступок приведет к разглашению конфиденциальной или распространению неверной информации, и он следил за общественной реакцией. В письмах Герцена 1867–1868 гг. часто появляется эта тема, в том числе связанная с ожиданием выхода мемуаров Кельсиева [Герцен; т. 29, кн. 1: 136, 183].
Между тем в России поступок Кельсиева становится примером «правильного» раскаяния и приглашением, по мнению Герцена, к возвращению других [Герцен; т. 29, кн. 1: 223]. «Голос» опубликовал о Кельсиеве комплиментарную статью, с подробной биографией, в составлении которой, весьма вероятно, принимал участие сам Кельсиев. Заканчивалась статья так: «…с 11 сентября он находится уже между нами, возвращенный нам милосердием Государя»15. Нарратив, который выстраивает «Голос», недвусмыслен: возвращение возможно, а для достойных людей, каким зарекомендовал себя Кельсиев в более ранних публикациях в том же «Голосе», — и желанно.
Когда же «Пережитое и передуманное» наконец попало к Герцену, он не увидел в нем ничего, что требовало бы его комментария или опровержения:
«Кельсиева прочел в ¾ — и до сих пор писать отказываюсь, — в книге есть много слабого, его ошеломило освобождение, он мало видит гнусной стороны, он падал до религиозных припадков — но где же преступление?» (письмо Н. П. Огареву от 30 (18) июля 1868 г.) [Герцен; т. 29, кн. 2: 423].
В другом письме к Н. П. Огареву, от 3 августа (22 июля) 1868 г., он добавлял:
«Дочитал Кельсиева — я решительно отказываюсь писать16 да и тебе не советую. <…> Кельсиев сдался, как сумасшедший, — но не изменил» [Герцен; т. 29, кн. 2: 428]17.
Герцен увидел в Кельсиеве не изменника и не человека, стремящегося выслужиться, а порывистого, страстного и мистически настроенного мечтателя, сломленного действительностью и не понимающего, куда приложить собственные силы. Такой взгляд становится главной интерпретативной рамкой в мемуарах о Кельсиеве, включенных в «Былое и думы». Герцен завершает воспоминания трагедией Кельсиева, сценой смерти его брата, детей и жены [Герцен; т. 11: 339–340]. (В воспоминания о собственной жизни Герцен тоже включает историю своих семейных драм [Туниманов: 40–41, 96–99].) Примечательно, что и Кельсиев интерпретирует ключевые элементы своего возвращения через влияние на него личной трагедии.
История его возвращения становится типичным, образцовым примером. Не случайно, когда в 1869 г. возникли слухи о возможном возвращении Герцена, он в письме к Тургеневу иронически заметил: «Что я им за Кельсиев II достался!» — и использовал при этом неологизм «прикельсить» в значении принудить возвратиться по «кельсиевскому» сценарию [Герцен; т. 30, кн. 1: 58].
Разоблачающую рецензию написал А. Н. Пыпин в «Вестнике Европы». Для него книга Кельсиева — «материал для психологического этюда», а не источник новых идей. По его мнению, автор ищет «не правды, а просто сюрпризов, сопряженных с эффектами»18. Пыпина возмущает и сам факт публикации воспоминаний, в которых избыточная искренность оборачивается демонстрацией тщеславия и неправдоподобным — и потому даже для умеренных патриотов вредным — возвеличиванием России, включая ее полицейских и чиновников. Мемуары, с его точки зрения, нарушают публичную мораль.
В той же логике рассуждает Н. К. Михайловский в статье «Жертва старой русской истории». Он перефразирует с иронией формулу самого Кельсиева о его поколении как жертве новой истории. Михайловский видит Кельсиева не политическим, а «очень любопытным психологическим, если не психиатрическим субъектом»19. Он подробно анализирует внутренние противоречия мемуаров20, но главное — пытается выявить «психическую суть» автора, в основе которой находит его литературную сформированность, вполне в логике самоанализа самого Кельсиева.
П. Н. Ткачев видит в этом самообличении типично русское и иррациональное, непропорциональное реальным поступкам желание покаяния, иронически подчеркивая, что «новый и еще более сильный прилив раскаяния» Кельсиев испытал именно после того, как успешно обустроился в Петербурге. Сперва в своей публицистике, по словам Ткачева, он «в видах искупления договаривался до бреда», затем решился «выдумать что-нибудь более удивительное и более грандиозное» — «целую книгу со специальною задачею оплевать себя в ней так, как еще никто никогда на Руси себя не оплевывал…»21. «Русофильство» Кельсиева, по Ткачеву, — лишь последняя по времени метаморфоза, за которой непременно последует новая.
В отзывах — от Герцена до Ткачева — выражается устойчивая позиция: воспоминания Кельсиева не воспринимаются как вклад в литературу или политическую мысль, а становятся поводом для психологического анализа. Герцен видит в герое мемуаров символ судьбы изгнанника; Минаев, Пыпин и Ткачев сводят его образ к анекдоту; Михайловский рассматривает его как объект психопатологии.
Показательно, что читатели объясняли поступки Кельсиева его воспитанием, словно именно они провели тот же анализ, который он уже предпринял. Ведь сам Кельсиев превратил свое детское чтение и пристрастие к таинственному в предмет обсуждения, увязав их с интересом к восточным языкам, революции, расколу и Европейской Турции. Он стремился сделать себя самого объектом анализа. В других людях он, впрочем, пытался обнаружить ту же потребность. Так, будучи казацким головою (атаманом) в Добрудже, Кельсиев надеялся предотвратить беспорядки, устраивая доверительные беседы с потенциальными преступниками — своего рода «психический анализ», как он его называл:
«Это удивительно действовало на них, — им как-то совестно становилось продолжать прежнее, они меня щадили, огорчить боялись; мое сочувствие к их бедам и страхам исправляло их. А я никогда не давал им советов и нравоучений не читал. Я просто интересовался их психологическим бытом, <…> исповедь их передо мною исправляла их. Они помнили, что есть на свете человек, который их понял, дорожили моей дружбою и делались людьми, как все люди» ( Исповедь : 377).
Мемуары Кельсиева были попыткой не только сформировать прецедент литературного и политического возвращения, но и разработать его сценарий. Он стал одним из первых революционеров, кого публично, и притом так стремительно, простило российское правительство.
Герцен вспоминал менее удачный пример М. С. Гулевича, также революционера и эмигранта, которому в 1866 г. было отказано в возвращении: «Гулевич просил смиренно прощенья — а простил его не государь, а эмигранты» [Герцен; т. 29, кн. 2: 428]22. В отличие от случая Кельсиева, прощение Гулевича не состоялось, хотя в пореформенное время государство стремилось вернуть на родину соотечественников, живших за границей (не столько эмигрантов в строгом смысле, сколько дворян, лишенных политической вовлеченности), и к этому призывали как периодика, так и отдельные писатели (см. об этом: [Гуськов]).
В проправительственных кругах возвращение Кельсиева встретили с энтузиазмом. Достоевский, находясь за границей, с умилением писал об этом Майкову 9 (21) октября 1867 г., выражая тревогу, что теперь на Кельсиева «взъедятся как звери» либералы «семинаро-социального оттенка» и станут обвинять его в доносах [Достоевский; т. 28, кн. 2: 227]. Некоторое время Кельсиев даже был в центре внимания столичного общества, но там интерес к нему быстро угас [Кленовский: 259–261].
Историю Кельсиева можно рассматривать шире: он стремился усовершенствовать язык эмигрантской саморефлексии (подобным образом в России XVIII в. разрабатывались первые литературные биографии, формировавшие представления о роли и месте писателя в обществе и создававшие его репутацию — см.: [Живов]). Поступки Кельсиева — от эмиграции до возвращения из нее и написания мемуаров — представляют своего рода спектакль, в котором биография становится публичным высказыванием.
Здесь уместно вспомнить рассуждения А. Шёнле о «перформансе изгнания» в биографии Н. И. Тургенева, осужденного декабриста и первого политического эмигранта. Шёнле рассматривает изгнание как совокупность публичных действий, через которые личная биография становится разновидностью высказывания. «Изгнание — не частное дело, а ряд поступков, рассчитанных на реакцию публики», — пишет он, определяя этот опыт не как заранее просчитанную стратегию, а как последовательность ситуативных реакций на изменчивые обстоятельства [Шёнле: 53]. К таким обстоятельствам в биографии
Тургенева относятся его «эмоциональная, моральная, культурная и идеологическая неопределенность и обездоленность», усиливаемая амбивалентным положением России, которая стремится быть частью Европы, но внутренне остается раздробленной. Каждый изгнанник вырабатывает свой поведенческий стиль, опираясь в том числе на культурные роли «от Овидия до Данте и Пушкина» [Шёнле: 53].
Жизнь Тургенева за рубежом, по Шёнле, представляет собой «перформанс изгнания», цель которого — сохранить согласие между личными убеждениями и тем, чего требовала историческая эпоха. До эмиграции он соединял идеи просвещения с умеренным национализмом; за границей стремился дистанцироваться от России и воспринимал Запад как обитель прогресса, но признавал, что «родина сохраняет неодолимую власть над нами» (цит. по: [Шёнле: 64]). Не сумев влиться в западное общество и окончательно разорвать связь с Россией, он пытался сохранить и интеллектуальную свободу, и лояльность. Тургенев добивался пересмотра своего дела и в 1857 г. получил прощение Александра II, при этом в Россию не вернулся, приезжая лишь на короткое время.
Герцен, с точки зрения Шёнле, воплощает противоположную стратегию. Для него отъезд — не движение к будущему, а вынужденное нахождение в прошлом, ведь нынешняя Европа утратила революционную энергию. Верит же он в решающую роль России. Герцен не ищет компромисса с властью и не стремится вернуться: он превращает изгнание в публичную трибуну, используя свободу слова, обретенную им в Европе, чтобы говорить с Россией. В отличие от Тургенева, его стратегия идейно заострена, но внутреннее раздвоение сохраняется: он остается русским писателем, говорящим изнутри европейского контекста, где он ощущает и свободу, и отчуждение.
Мы предлагаем рассмотреть в этой схеме также и Кельсиева. Он представляет обратное движение — его «перформанс изгнания» завершается не закреплением дистанции, а возвращением. «Исповедь» и мемуары Кельсиева можно понимать как последовательные акты публичного высказывания, обращенные и к власти, и к обществу. В отличие от Герцена, он говорит не как оппозиционер — он становится «своим собственным адвокатом» (Пережитое и передуманное: 246), стремясь показать внутренний перелом. Его тексты — это риторический жест, направленный на прекращение изгнания и восстановление связи с русским обществом.
Оригинальность психологической манеры Кельсиева ускользала от критиков, колеблющихся между представлением о нем как о наследнике мистического романтизма и обвинениями в приспособленчестве и политическом авантюризме. Между тем Кельсиева невозможно понять вне его внутренней противоречивости и иррациональности, которые он сам подчеркивает. Противоречивость его натуры — общее место критических и мемуарных высказываний о нем, однако никогда не учитывается, что сам Кельсиев прекрасно отдает себе в этом отчет. Он стремится придать повествованию цельность, указывая на отказ от революционных убеждений как результат общения с раскольниками (историческая логика), но одновременно акцентирует роль семейной трагедии (личные причины). Он подвергает себя анализу, чтобы провести линию преемственности между энтузиазмом 1840-х гг. и разочарованиями 1860-х гг. (историческая логика), и при этом демонстрирует спонтанность и внезапность своих решений, подчеркивает свой интерес к магии, мистике, совпадениям и фантастическим идеям (мистическая логика).
Его «перформанс возвращения», если перефразировать Шёнле, касается не только жизненных практик, но и литературы. По мнению исследователей, история Кельсиева повлияла на создание «Бесов» Достоевского (см.: [Достоевский; т. 12: 231–233], [Тарасова]) — притом, добавим мы, не только на генезис Шатова или Кириллова, но и на «фантастическое» желание Липу-тина взять и уехать за границу [Достоевский; т. 10: 430], на возвращение Верховенского и Ставрогина.
В одной из работ мы попытались расширить генезис Версилова, героя «Подростка», за счет включения туда Нехлюдова из «Люцерна» Толстого [Димитриев]. Полагаем, что внезапный и иррациональный отъезд и возвращение Кельсиева находит продолжение в том же герое Достоевского. При всех различиях их происхождения, занятий и интеллектуальных привычек оба они уезжают за рубеж и возвращаются спонтанно. Оба объясняют это в исповедальной форме. Кельсиев уезжает, потому что «таким воздухом веяло», а Версилов «эмигрировал», но, к неудовольствию сына, не к «Герцену» (участвовать «в заграничной пропаганде»), а «просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски. <…> Дворянская тоска и ничего больше» [Достоевский; т. 13: 373–374]. Свою идею русской тоски, всемирного служения, скитальчества как мотивировку отъезда и возвращения Версилов совмещает с личными мотивами — запутанными отношениями его с Софьей Андреевной и Ахмаковой. Таким же образом Кельсиев мотивирует свое возвращение одновременно новой захватившей его идеей и духовным опустошением вследствие семейной драмы. Конечно, ни о каком строгом совпадении не может идти речь — скорее, следует сказать, что Кельсиев входит в число эмигрантов, задавших характер и некоторые жизненные мотивы Версилова.
Мы хотели бы дополнить кельсиевский контекст в творчестве Достоевского еще одной деталью. Несмотря на возвращение в Россию, Кельсиев не стал осведомителем III Отделения, никого не оговорил и делился сведениями, уже известными полиции (см. об этом: [Кленовский: 255–256]). Это соответствовало его позиции не отрицать прошлое полностью.
Показательна в этом отношении его обширная рецензия на повесть Стебницкого (Н. С. Лескова) «Загадочный человек» (1870), в основе которой лежала биография Артура Бенни и отчасти самого Кельсиева. В этом произведении Лесков называет 1860-е гг. «комическим временем», а подзаголовок к первой публикации гласит: «Очерк из истории комического времени на Руси». Кельсиев вступает с ним в полемику:
«То было время, к которому я сам принадлежал в качестве деятеля, и подать голос за старых товарищей, одна половина которых находится уже на том свете, а другая в ссылке и в каторге, считаю я своим священным долгом. Мы ошибались: мы думали сотворить в России революцию — но время наше комичным не было. <…> Мне кажется, что и сам Дон-Кихот далеко не только комичен. Мы шли с верою, мы делали ошибки, но шутами гороховыми, как нас старается представить г. Стебницкий, мы не были. Плох комизм людей, которые с утра до вечера ждут ареста, которые видят пред собой виселицу или двенадцать пуль!»23.
По мнению Кельсиева, Стебницкий-Лесков, хоть и «не люст-ририруя чужих писем, люстрирует пред публикой старые, давным-давно искупленные и заглаженные чужие грехи…»24, к коим он, вероятно, относит и свои собственные.
Примечательно, что для обоснования серьезности того времени Кельсиев ссылается на фигуру Дон-Кихота — не как комического, а как трагического героя. Такой взгляд восходит еще к Белинскому [Белинский: 244], но из ближайших к рецензии Кельсиева текстов ее можно было почерпнуть из романа «Идиот», в котором Аглая Епанчина замечает, что пушкинский «рыцарь бедный» — это «тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический» [Достоевский, 2019: 229].
Однако важнее другой аспект. Кельсиев, несмотря на свой внутренний перелом и не порывая со своим новым образом, продолжает говорить от лица ушедшего революционного поколения и защищать его. Подобная модель высказывания «бывшего революционера» об антиправительственной деятельности повторяется и у Достоевского. Вероятность знакомства Достоевского с этой рецензией большая: она была опубликована в журнале «Заря» (1871, № 6), а это издание, включая другие помещенные туда кельсиевские статьи, Достоевский регулярно читал [Достоевский; т. 12: 219]. Мы полагаем, что рецензия Кельсиева послужила одним из источников статьи Достоевского «Одна из современных фальшей» (1873). В этой работе, завершающей «Дневник Писателя» 1873 г. в составе «Гражданина», Достоевский отрицает утверждение, будто к революции тяготеют «ху…дшие» люди, вполне в духе риторики Кельсиева:
«…я сам старый "нечаевец", я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, когда уже всё прошло , заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями» [Достоевский; т. 21: 129].
В основе заблуждений Достоевского и других петрашевцев были такие влияния, которые захватывали «сердца и умы во имя какого-то великодушия» [Достоевский; т. 21: 131]. В этой статье бывший петрашевец, хоть и настаивает на произошедшем в нем перерождении убеждений, все-таки оправдывает увлечение революционными идеями. Характерно, что далее он вспоминает один из рассказов Кельсиева об эмигрантах [Достоевский; т. 12: 135]25.
В «Исповеди» и «Пережитом и передуманном» Кельсиев создает две версии одной и той же биографической истории, различие между которыми показывает, как автор переосмысливает свою роль. Он сочетает политический жест с литературной самохарактеристикой, сначала выступая кающимся преступником перед властью, а затем — героем «романизированной» исповеди перед публикой. В «Исповеди» он фиксирует внутренний перелом 1864–1865 гг., стремясь показать искреннее покаяние. В «Пережитом и передуманном» автор превращает тот же материал в литературную историю о внезапном спасении — роман воспитания или антивоспитания, где личный кризис становится симптомом эпохи. Он подробно описывает круг юношеского чтения и школьное воспитание — из этого выводит формулу поколения, воспитанного на противоречии между мечтой и анализом.
«Исповедь» и «Пережитое и передуманное» образуют диптих, показывающий путь их автора и героя от политического покаяния к литературной самохарактеристике. Фигура Кель-сиева становится предметом полемики о границах покаяния и гражданской ответственности. При этом критика упускала из виду главное: стремление Кельсиева изобразить внутренне противоречивого автобиографического героя, сочетающего аналитический склад ума с иррациональностью поступков. Такой тип мышления и повествования сближает его с Достоевским, сочувственно отнесшимся к его судьбе.