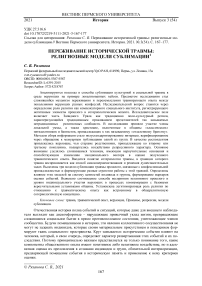Переживание исторической травмы: религиозные модели сублимации
Автор: Рязанова С.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Опыт переживания исторической травмы
Статья в выпуске: 3 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
Анализируются подходы и способы сублимации культурной и социальной травмы в среде верующих на примере локализованных кейсов. Предметом исследования стал сложившийся механизм переживания и переосмысления травмирующего опыта между поколениями верующих разных конфессий. Исследовательский вопрос ставится через определение роли религии как компенсаторного социального института, регистрирующего негативные элементы прошлого в сотериологическом аспекте. Исследовательское поле включает часть Западного Урала как традиционно поли-культурный регион, характеризующийся традиционным проживанием представителей так называемых нетрадиционных религиозных сообществ. В исследовании приняли участие члены локальной уммы, а также христиане, включенные в общины «классических» пятидесятников и баптистов, принадлежащих к так называемому «отделенному братству». Методом сбора информации стало полустандартизированное интервью, верифицированное через обращение к мемуарным публикациям одной из групп. В качестве респондентов привлекались верующие, чьи старшие родственники, принадлежащие ко второму или третьему поколению, подвергались воздействию репрессивного характера. Основное внимание уделялось сложившимся техникам, имеющим вероучительные основания и способствующим изменению эмоционального вектора в оценке полученного травматического опыта. Вводится понятие сотериологии травмы, в границах которого травма воспринимается как способ самосовершенствования и решения душеспасительных задач. Выделены три модели сублимации травмы прошлого, связанные с конфессиональной принадлежностью и формирующие разные стратегии работы с этой травмой. Определены влияние этих моделей на систему ценностей индивида и группы, формирование маркеров оценки событий. Выявлено соотношение способа восприятия негативного прошлого и уровня индивидуального участия верующих в процессах коммеморации с базовыми вероучительными установками общины. Установлена легитимирующая роль религии по отношению к травматическому опыту как встроенному в общерелигиозную сотериологическую концепцию.
Травма, травматический опыт, верующие, прикамье, репрессии, модели сублимации
Короткий адрес: https://sciup.org/147246378
IDR: 147246378 | УДК: 27:316.6 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-3-167-177
Текст научной статьи Переживание исторической травмы: религиозные модели сублимации
Традиционно анализ такого рода феноменов связан с приобретением сообществом негативного опыта как особенно способного вызывать необратимые изменения в сознании, скорректировать работу механизмов памяти и определить особенности дальнейшего социального поведения. Благодаря работам психоаналитиков, оказавшим сильное влияние на развитие и социально-гуманитарных наук, наиболее популярным для маркировки негативного опыта и определения характера его воздействия стало понятие травмы. Оно достаточно быстро перекочевало в поле социальных и культурологических исследований, постепенно утрачивая акцент на собственно телесных проявлениях травматического опыта и концентрируясь на социальном восприятии, оценке и последствиях травматизации (подробно об этапах становления исследовательских стратегий и подходах к исследованию травмы см. [ Миськова , 2019; Аникин , 2018]). Выведение травмы за пределы сферы психологического и физиологического и превращение ее в социальное явление дало возможность не только прогнозировать возможные неблагоприятные итоги событий такого рода, но и еще раз поднять вопрос о соотношении биологического и социального в человеке, о потенциале той части общественной жизни, которая является нематериальной по природе, но достаточно эффективной в своем влиянии на все аспекты существования человека. Рассмотрение природы и последствий травмы как прежде всего социального феномена создает основу для реабилитации социальных наук, зачастую обвиняемых в субъективности, идеологичности, существовании вне жизненных реалий. Анализ проекции травмы на социальное пространство, ее триггеров, компенсаторов и личностных превращений предоставляет возможности для корректировки представлений как о механизмах управления социумом, так и о моделях преодоления и ухода от воздействия такого рода.
Преобладающее большинство исследований травмы как социокультурного явления опираются на концептуальный базис, сконструированный Р. Айерманом, Дж. Александером и П. Штомпкой [ Александер , 2012; Айерман , 2013; Штомпка , 2001; Alexander, 2003 ; Eyerman, 2001 ; Eyerman, 2013 ; Eyerman, 2015 ; Eyerman, 2016 ; Eyerman, 2017 ; Alexander, Smith, Jacobs, 2019 ; Cultural Trauma and Collective Identity, 2004]. Его основу составили представления о травме как об одном из способов формирования коллективной идентичности и о специфике ее социального конструирования. Травматизирующие события общественной истории выступили в качестве исследовательского факта для блока работ, основной интенцией которых стали фиксация и анализ следов травматического воздействия на различные стороны общественной жизни (компендиум исследований, посвященных проблеме травматического в отечественной историографии, представлен сборником [«Травма: пункты», 2009]). В полной мере это относится и к отечественным исследованиям, в границах которых последние двадцать лет тема травмы приобретает все большую популярность [ Бурлакова , 2015; Варга и др. , 2017; Зубков , 2019; Камоза , 2016; Корецкая , 2017; Красноборов , 2017; Кучева , 2016а; Николаева, Сафонова , 2010; Омельченко, Андреева , 2017; Печин , 2014; Тульчинский , 2016; Тульчинский , 2018, Федосова , 2019]. В поле внимания по большей части оказываются последствия раскулачивания, большого террора, разного рода гонений, включающие в себя деформацию мировосприятия, переживание травматического воздействия, коррекцию символического пространства [ Атанесян , 2016; Винокуров, Воронцова , 2017; Колдушко , 2016; Колдушко , 2019; Коротецкая , 2016; Кучева , 2016b; Кучева , Мордвинцев , 2019; Логунова , 2009; Махлин , 2017; Рахаев , 2015; Халлисте , 2015; Хлынина , 2013; Шеманова , 2016; Янковская , 2012]. Особую группу составляют тексты, посвященные проблеме религиозно-мифологического осмысления травматического опыта [ Rouhier Willoughby J. , 2015], реконструирования системы социального восприятия и поведения через осмысление деформирующего начала и связанных с ним событий [ Аникин , 2017; Аникин , Голо-вашева , 2017; Аникин , 2014]. Этот аспект осмысления травмы остается открытым благодаря наличию широкого спектра связанных с ним явлений.
Представляется, что в настоящее время слабо исследованным является социальный механизм, работающий на освоение и сглаживание травматического события, итогом чего может стать примирение с травмирующим событием. Отправной точкой для анализа является тот факт, что в сглаживании пережитой травмы для человеческого сознания могут быть задействованы психологические и социальные процедуры, которые исходно применяются носителем травматического опыта. С целью определения принципов формирования и уровня устойчивости этих процедур для осознания травмы мы выбрали в качестве респондентов верующих детей и внуков тех, кто испытал притеснения и гонения, вынужденных определенным образом воспринимать, переживать и оценивать события биографии их родителей. Значимым для данного исследования представляется решение исследовательского вопроса о том, зависит ли успешность преодоления травматического опыта от полученных в ходе воспитания и образования мировоззренческих установок, либо же степень травмированности субъекта определяется историческим контекстом, сложившейся социальной ситуацией, человеческой природой.
В исследовании приняли участие верующие трех религиозных сообществ Прикамья, декларирующие свою вероучительную принадлежность участием в обрядах, открытым исповедованием вероучения, официальным утверждением соответствующей религиозной аффилиации. Интервью согласились дать верующие-мусульмане, представители так называемого «отделенного братства» (баптисты-инициативники) и члены церкви классических пятидесятников, занимающих позицию отказа от официальной регистрации. Для представителей всех сообществ использовался один набор вопросов для полуструктурированного интервью, допускающего изменение порядка вопросов, отступления от темы, добавление к ней попутно возникающих аспектов обсуждения. Анализ полученных данных осуществлялся вне учета возрастного и гендерного аспектов, с акцентом на конфессиональной принадлежности респондентов. Во всех случаях интерпретируемые события травматического характера имели временной интервал отрыва от настоящего времени не менее сорока лет, что позволяет говорить о работе темпоральных механизмов смягчения репрессивного опыта. В качестве верифицирующих источников были использованы публикации, посвященные теме репрессий, изданные баптистским сообществом [ Плетт , 2010; Страницы памяти, 2011]2.
Основными задачами предлагаемого текста выступают установление специфики оценки верующими респондентами полученного травматического опыта и фиксация способов его переживания как связанных с наиболее значимыми мировоззренческими установками.
В качестве отправной точки для рассуждений стоит отметить, что для потомков пострадавших существует только идеализированный образ страданий за веру, который не может служить основой для описания реальных переживаний. Для верующих он обладает абсолютной значимостью, что закладывает принцип отношения к неприятностям в будущем и частично компенсирует негатив в описании прошлого. Представители евангельских церквей декларируют такое отношение как единственно верное. Готовность к испытаниям не менее важна, чем уже приобретенный опыт духовного сопротивления гонениям: «Правильнее сказать, что люди отличаются не тем, что прошли или не прошли, а тем, готовы ли они были это проходить. Вот потому что не все попали под эту машину, да, но гораздо больше людей готово заплатить эту цену, и они, естественно, не отличаются особо от тех, кому пришлось заплатить эту цену, части людей. Конечно, они знали, что, если придет момент, им придется выбирать между свободой и верой, то они выберут свободу» (интервью, 5.11.2020 (2)). Члены местной уммы не используют таких строгих формулировок, воспроизводя при этом аналогичное отношение к неприятным событиям.
В связи с этим детство и юность описываются не как обезображенные репрессиями, а полные тепла и радости от психологически комфортного состояния в окружении близких людей: «Я все детство ощущала себя счастливым ребенком, потому что у нас была хорошая семья. Родители любили друг друга, заботились друг о друге, нас любили очень. Поэтому я росла счастливым ребенком» (интервью, 2.12.2020 (1)). Представляется, что такое восприятие обусловлено не только настроем на жертвенность, но и сформированной системой приоритетов, в границах которой материальное принципиально занижено по статусу по сравнению с духовными ценностями. Ни в одном из рассказов не прозвучало жалоб на скудный достаток, за исключением одного интервью, в котором респонденты игнорировали описание материальных последствий гонений за веру, а то единственное упоминание о бытовых трудностях прозвучало только в свете восторга перед родителями, которые смогли с ними справиться: «А жили мы, конечно, скромно, хотя у нас и было свое хозяйство, но в то время ведь не было такого вот – золото надо или что-то... Есть одежда? Есть... Есть питание? Есть» (интервью, 2.12.2020).
Подобное отношение к негативному опыту можно было бы считать подчеркнуто декларативным, но оно подтверждается и ответами на вопросы, косвенно утверждающие наличие травмы:
« Интервьюер: Семья огромная, получается, четырнадцать человек. А не было вот видно такого, что, допустим, кто-то не против на эту тему поговорить, кому-то неприятно об этом слышать, кто-то уклоняется?
Респондент: Сколько я наблюдал, абсолютно одинаковое, ровное отношение. Просто как бы такая вот именно что радость за то, что родители вот такие были – не дети времени, не прогнулись под изменчивый мир, вот. Отсюда вот такое приятное ощущение» (интервью, 5.11.2020 (2)).
Обратим внимание на то, что подобный дискурс является прерогативой исключительно евангеликов. В данном высказывании мы не видим того замалчивания травмирующего опыта, который отмечается психологами и терапевтами в том случае, когда травма оказалась очень глубокой [ Рождественская , 2009, c. 109–110]. Это не означает, что пережитые гонения не оказали негативного воздействия на семью. Верующие евангельских общин за счет ориентации на решение актуальных проблем и романтизации репрессий в прошлом оказываются психологически защищенными даже в ожидании новых гонений: «Может, это плохо, плохая черта у меня, что история… как-то мало вникаю в прошлое, но почему-то не зацепляет, так как сегодняшний день… важно сегодня правильно жить, любить людей» (интервью, 5.11.2020 (1)). Подобное отношение не только компенсирует впечатления от событий негативного характера, оно переносит человека в новую систему координат, с особым набором категорий и оценок:
« Интервьюер: Так время лечит, получается, все равно…
Респондент: Раны не было» (интервью, 5.11.2020 (2)).
Вместо травматического опыта в мировоззрении членов евангельских церквей возникает концепция избранности, компенсирующая реальные и потенциальные социальные проблемы: «Вот это ощущение: мы другие. Нам дороги не открыты, как другим. Вот. И относиться к нам не будут, как к другим, вот такое постоянное ощущение» (интервью, 5.11.2020 (2)). Основанием для этой позиции становится евангельский текст: «Апостолы говорили, что, ну, они не скрывали, новообращенным христианам, вот ту весть, что много придется страдать» (интервью, 14.10.2020 (1)). Трактовкой социальной жизни как юдоли бедствий евангелики усиливают элемент эскапизма по отношению к реальности, нисколько не противоречащего характерным для этих церквей представлениям о протестантской трудовой этике. Эти два вектора разводятся в разные сферы мировосприятия: есть актуальный мир, в котором ты должен вести себя, как полагается, и есть мир потенциальный, но обладающий высокой вероятностью актуализации, и в его границах исповедующий веру также реализует необходимую стратегию поведения.
Столкнуться с несправедливым отношением – это пройти по пути, подобному гонениям на Иисуса Христа, это вариант уподобления Богу, поэтому он должен получить положительную оценку со стороны верующего: «Ну, во-первых, нам с детства говорили, проповедовали Евангелие. Мы это читали, мы это слышали, это знали, что мы – христиане, то есть последователи Иисуса Христа. Мы знаем его жизнь, как он жил, как он поступал, как он взаимодействовал с людьми. Это то, что, как с ним поступали и как он поступал по отношению к ним. То есть мы учимся у него. Он говорил: “Меня гнали, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше”. Также вот, допустим, мы знаем, что… ну и... он говорит: “Как со мной поступали, так и с вами будут поступать” <...> естественно воспринимали. Значит, наш такой путь, значит, так должно быть» (интервью, 9.12.2020). Возможное репрессивное воздействие поэтизируется: «Золото в плавильной печи не уничтожается, но очищается и удрагоценивается. Такому же процессу подвергается и такого же результат достигает и истинная вера в горниле испытаний скорбями… ВЕРА, при сопровождающих ее скорбях, эволюционирует, не уменьшаясь, но возрастая в новых опытах и поднимаясь по ступеням все выше и выше, до безошибочного чувствования любви Божией, излитой в сердца верующих духом Святым, данным им в день их обращения к Господу» ( Винс , 2003, с. 218).
Судьба родителей становилась подтверждением справедливости услышанного и прочитанного и укрепляла уверенность в правильности выбранного пути: «Мы жили в том, что мы радовались, что нас гонят, потому что... нас родители, может быть, к этому поощряли, что гнали Христа, будут гнать и нас. Это значит – верный путь. Значит… ну, мы были с детства… увидели, что явно Бог есть, что мы идем по правильному пути и мы, в общем-то, может быть, оценку вот эту мы дали, когда мы уже выросли» (интервью, 15.12.2020).
Открытое исповедование веры воспринимается как гарантированно жертвенное состояние, вне зависимости от сферы общественной деятельности: «Знаете, давление какое-то я всегда чувствовал. Как относился я? Я нормально относился. Я понимал, что, в принципе, такая жизнь верующего человека. Тогда другое дело – как бы неожиданность какая-то. А мы всегда ожидали. Даже идя в армию, мы ожидали. Потому что практика в то время очень была сильная» (интервью, 14.10.2020 (2)). В одном из интервью прозвучала четкая формулировка такой позиции: «Мы вообще репрессии понимаем как страдать за Бога» (интервью, 20.10.2020 (1)). И за это полагается награда для сообщества верующих уже в этой жизни: «Когда начинаются сильные гонения, наоборот, людей, так сказать, притягивает. И понимаешь, что это именно то, не знаю, так трудно сказать <…> людей беда сплачивает» (интервью, 20.10.2020 (2)).
Жертвенность превращается в основание для формирования собственных образцов для подражания: «У христиан там своя героика. Мы не отвергали там, что есть герои-комсомольцы, пионеры и т.д. Но все равно у нас своя героика» (интервью, 14.10.2020 (1)). Эта героика не только получает вербальное оформление, но и – у тех же баптистов – специально культивируется в рамках особых вечеров воспоминаний: «У меня, на моей памяти, такие встречи необычные. Знаете, это такие ощущения, действительно, как герои» (интервью, 14.10.2020 (2)).
Примечательно, что героические образы становятся интер-конфессиональными, превращаются в достояние церквей, принадлежащими разным церквям. В интервью, взятом в общине классических пятидесятников, автору рассказали одну из таких историй:
« Респондент: Вот, может, вы помните, вот такая вот история о Моисееве?
Интервьюер: Нет, я не слышала.
Респондент: Ну, вот человек пошел в армию, и вот над ним там очень издевались, вот так он, мученически… утопили его в Черном море. Это был большой резонанс, потому что стало известно на Западе, Запад стал, значит, все... Ну, это был 1975 год примерно. <…> Для нас это был герой, потому что как он вел себя, как он…
Интервьюер: Он верующий был, да?
Респондент: Да, да, он был как бы из баптистов параллельного направления, так называемые инициативники» (интервью, 14.10.2020 (1)).
И второе поколение, и третье – из тех, кто помнит о гонениях, –примеряет на себя роль мученика за веру. Сначала высказываются старшие: «Конечно, мы на себя примеряли: что, а как я, а смог ли бы я? Знаете, даже однажды был такой определенный страх, неуверенность, и я вам скажу, бог дал, что вот этот страх был побежден. Однажды я услышал проповедь такую. Один брат проповедовал и говорит: “В Деяниях апостолов написано, когда апостолов взяли и избили, и они радовались, что они за имя господа удостоились принять бесчестие, вы понимаете вот, здесь написано “они радовались”, первое – что это случилось, второе, говорит, это надо удостоиться, это не всех коснется”. И, на самом деле, вот потом, когда я это понял, что это надо удостоиться, а я еще не так силен, чтобы удостоиться вот этих страданий» (интервью, 14.10.2020 (1)). Эта же мысль рефреном звучит и у молодежи: «Я, во-первых, был горд за то, что я именно в таком... как бы с такими людьми верующими. Очень сильными духом и тому подобное, что они выстояли. Конечно, я тоже примерял на себя, смог бы я выдержать – те репрессии, те трудности как бы, что они на себе» (интервью, 20.10.2020 (2)).
Общий настрой евангельских верующих можно выразить стихотворными строчками:
Но я молю, чтоб добровольно
Избрал тернистый путь Христа! ( Винс , 2003, с. 67).
Следует обратить внимание на то, что потенциальные репрессии понимаются как награда, которая дается только по силам и только самым достойным. Поэтому внуки пострадавших, подходя к себе с такой меркой, временами сомневаются в своих душевных силах: «Вот чисто просто мое впечатление, что как бы мы, в принципе, сейчас намного слабее, чем тогда (были люди – С. Р. )» (интервью, 9.12.2020 (3)). Остается только ощущение духовного единства с героями: «Я думаю, что вообще чувства такие, что как бы люди, они за веру готовы были стоять. Это очень хорошо, то есть они не подвергались этим, ну, не подчинялись мирским законам, которые были. И в то же время сохранили, ну, верность своей вере, Богу, и то есть как бы у меня чувство патриотизма есть… гордость, то, что… И верные люди, которые не сдались» (интервью, 2.12.2020).
На основе жертвенности формулируется своеобразная сотериология травмы, которая у мусульман только намечена («Посылает нам Аллах испытания… Нам хазрат сказал: “если бы” вот это, говорит, это слова от шайтана. Что случилось, то случилось, на все воля Аллаха» (интервью, 2.12.2020)), а для верующих евангельских церквей кристаллизуется на протяжении трех поколений. Показательны воспоминания одной из верующих о репрессированном отце: «А мне папа говорит: “Мне не хватало, мне не хватило, может быть, мудрости самому воспитать всех десятерых – шесть сыновей, четыре дочери”. Он говорит: “А за меня это сделали следователь, прокурор”. Когда, говорит, я стоял, ничего не мог сказать, а оставался верным Богу, мои дети видели, и в них загоралось желание быть таким же, как отец» (интервью, 15.12.2020). Второе поколение баптистов переносит это отношение в плоскость спасения общины в целом: «Если Бог позволяет и мы этого достойны, то мы это воспринимаем за честь. Когда это позволяет Бог, то у Него есть свои планы насчет этого. И когда Церковь входит в этот период, значит, у Бога есть такие намерения, чтобы Церковь сделать лучше, чтоб были действительно герои веры, чтобы люди ярче Его увидели. Вообще, Бог допустил в истории такое, чтобы Бога ярче заметили. И люди сейчас видят Бога» (интервью, 20.10.2020 (1)). Ради этого верующие морально готовы приносить себя в жертву: «Для того, чтобы нас любил Бог, мир должен возненавидеть; чтобы быть принятым небесами, здесь непременно будем изгнанниками» ( Винс , 2003, с. 196).
Гонения воспринимаются как стимулирующие практики спасения души: «Во время гонений больше духовно начинаешь вникать, молиться больше начинаешь, в постах быть. Они как бы укрепляют веру. А если нас не трогают, то мы ослабеваем в вере, можно так сказать. Даже с такой жизнью, которая сейчас у нас идет, дьявол – хорошо, этот Интернет, молодежь туда вливается, все в телефонах, Библию оставляют, отодвигают на второй план, не читают. Гонения, наоборот, укрепляют веру. Ближе к Богу мы становимся» (интервью, 27.10.2020). Им вторят пятидесятники: «Вот когда церковь гонима, она тогда живет. Когда прекращаются гонения, божий народ с миром сливается… эти обычаи, все входит, нет вот того, чтобы стоять, понять эти вот ценности, этого нет. И я вижу, что церковь, она от начала, если взять историю от первых христиан, гонения, то они с новой силой… жесточайше, то они смолкают, на какой-то период они снова поднимаются. И поэтому для нас это естественные условия» (интервью, 14.10.2020 (1)). Можно привести и более лапидарную формулировку, под которой готовы подписаться все респонденты-евангелики: «Если есть гонения, то Церковь очищается, Бог там виден ярко. Нам очень это ценно» (интервью, 20.10.2020 (1)). Актуальность спасения души для верующих настолько очевидна, что заставляет отказываться от явных социальных преимуществ в виде образования и хорошей работы. Показателен случай с одной из дочерей репрессированных, переживавшей из-за закончившейся ссылки отца, которую она рассчитывала разделить с ним, «чтобы поучиться» ( Пушков , 2007, с. 164).
Сотериологическое романтизируется, что приводит к дополнительной компенсации травматического воздействия: «Испытания порой трудные, но лишь в этих трудностях мы извлекаем уроки чудные. Дни бывают чернее туч, ветры дуют порой ужасные, но спасения яркий луч открывает нам небо ясное» (интервью, 27.10.2020). Поэтизация репрессий не делает их привлекательными в качестве социального факта, зато гармонично вписывает в качестве дополнения к евангельским повествованиям о страданиях Христа. Все это превращает негативный опыт прошлых поколений в адаптированную для современной ситуации модель совершенствования верующего, открывающую дополнительные возможности для индивидуального спасения через веру.
Обращение к особенностям интерпретации негативного опыта в трех религиозных общинах одного региона показало, что ведущим фактором, определяющим абрис повествования и специфику его содержания, является не хронология, а локализация и содержание событий. Фиксирующее принципы мировосприятия начало помещено в границы вероучения, к которому относят себя потомки пострадавших, тесно связано с тем историческим контекстом, в котором существует религиозное сообщество. Если сотериологическая составляющая так или иначе присутствует как элемент канона во всех авраамитических религиях, то уровень ее кристаллизации и приоритетности обращения напрямую зависит от статуса, который религиозная группа имеет внутри правового пространства, и государственной политики в ее отношении. Опыт отечественной истории свидетельствует о том, что мусульмане оказались для конфессионального и право- вого пространства более «легитимными», что в значительной мере уменьшило прессинг по отношению к ним со стороны властей. В мировоззренческом плане это отразилось в слабой развитости как мировоззренческой, так и поведенческой модели восприятия репрессивного опыта.
Поскольку для представителей евангельских церквей практика гонений закрепилась в качестве привычных жизненных обстоятельств, в сочетании с резонансом по отношению к христианскому священному нарративу, она достаточно быстро была помещена в один ряд со страданиями мессии и тем самым превратилась в своеобразный тренинг для верующих. Пятидесятники и баптисты сформировали специфические модели сублимации негативного опыта, не менее успешные, чем предлагаемые специалистами по психоанализу. Эти модели различаются по степени вовлеченности членов общины и интенсивности обращения к опыту прошлых поколений, но имеют одинаковый вектор. Они выводят восприятие верующим повседневной жизни за пределы обыденной критики, встраивая в систему религиозных представлений и этим обесценивая достижения материальной жизни. Система ценностей переворачивается, и весь негативный багаж прошлого теряет свою потенциальную и актуальную травматическую нагрузку. Испытания не деформируют индивида, не искажают его позицию веры, они служат еще одним толчком для духовного самосовершенствования. Религиозное начинает играть уже не столько анестезирующую и сублимирующую, сколько легитимирующую по отношению к страданиям роль. Эта легитимация не подтверждает статус репрессий в правовом отношении. Действуя в пространстве веры, она утверждает неизбежность и обязательность страданий во вневременном измерении, превращая раны в награды, а побежденных – в победителей.
Список литературы Переживание исторической травмы: религиозные модели сублимации
- Айерман Р. Социальная теория и травма // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 1. С. 121-138. EDN: QZVGMJ
- Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 6-40. EDN: PELCHZ
- Аникин Д.А. "Изображая жертву": коллективные травмы и сакрализация прошлого // Философская антропология жертвы: от архаических корней к современным контекстам: материалы Всерос. конф. Саратов: Изд-во Саратов. гум. акад., 2017. С. 152-158. EDN: YKQOWK
- Аникин Д.А. "Травма" памяти: стратегии конструирования в современном политическом дискурсе // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 2, № 1. С. 220-229. EDN: SJTJDL
- Аникин Д.А. Травматизация прошлого: методология исследования и основные подходы [Электронный ресурс] // Studia Humanitatis. 2018. № 4. URL: www.st-hum.ru (дата обращения: 27.04.2020). EDN: VRPPVS