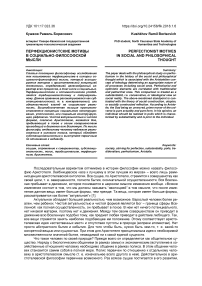Перфекционистские мотивы в социально-философской мысли
Автор: Кушхов Рамиль Борисович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философскому исследованию так называемого перфекционизма в истории социально-философской мысли, который ассоциируется автором с аристотелевской концепцией телеологии, определявшей целесообразный характер всех процессов, в том числе и социальных. Перфекционистское и оптимистическое уподобляется традиционалистскому и патриархальному. Данное сравнение рассматривается как субстанционалистский, т. е. консервативный, или идеологической взгляд на социальную реальность. Вышеобозначенная позиция противопоставляется концепции социального конструирования, утопической, или социально конструирующей, рефлексии. Чистой актуальностью и чистой формой, согласно Аристотелю, является Бог, пребывающий в покое и своим совершенством приводящий в движение всю Вселенную. По мысли философа, отдельному человеку надлежит реализоваться в условиях полиса, который обладает субстанциональностью и выступает первичным по отношению к индивиду.
Социум, стремление к совершенству, субстанциональность, полис, традиционализм, перфекционизм, аристотель
Короткий адрес: https://sciup.org/14941425
IDR: 14941425 | УДК: 101:17.023.36 | DOI: 10.24158/fik.2018.1.6
Текст научной статьи Перфекционистские мотивы в социально-философской мысли
ПЕРФЕКЦИОНИСТСКИЕ МОТИВЫ В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Последовательным вариантом оптимизма в истории философии можно назвать философию Аристотеля. Лейбницевское «все к лучшему в этом лучшем из миров» – всего лишь реминисценция аристотелевской онтологии. Все сущее, по Аристотелю, стремится к совершенству как своей цели, т. е. завершенности, полноте бытия, окончательной осуществленности. Вся Вселенная пребывает в движении, которое понимается в широком смысле изменения вообще. «Всякое изменение состоит в том, что мы должны называть “эволюцией” в том смысле, что после изменения данная вещь имеет больше формы, чем прежде. Та вещь, которая имеет больше формы, рассматривается как более “актуальная”» [1].
Актуальное обладает большей реальностью, чем возможное. Взрослый человек более реален, чем ребенок. Чистой актуальностью и чистой формой является Бог – граница сферы Вселенной: как полная осуществленность, он пребывает в покое. В нем нет ничего потенциального, нет никакой материи, поэтому нет и движения. Между тем своим совершенством он приводит в движение всю Вселенную подобно тому, как предмет любви приводит в действие любящего. Так, все вещи стремятся занять наиболее подобающее им положение. Этому соответствует аристотелевская идея «естественных мест» и отсутствия пустоты в природе (вопреки атомистам). Нет просто абстрактного бытия и небытия. Для того чтобы быть, нужно быть чем-то, т. е. какой-то конкретной вещью или сущностью. При этом для Аристотеля принципиальна идея о необозримой множественности значений бытия, несводимой ни к какой единой сущности.
Что такое человек по своей природе? Прежде всего он определяется как общительное существо. Наряду с биологическим общением (в рамках семьи) и экономическим (вступление в хозяйственные отношения) человеку необходимо общение в рамках полиса. В этом общении человек становится самим собой в полной мере. Полис первичен по отношению к отдельному человеку в аристотелевском смысле (т. е. изначальнее всего другого в нем). Действительное в аристотелевской философии первичнее возможного. Раз всякое сущее постигается в его развитии, а не в становлении, то и человек по отношению к полису - это некая потенция по отношению к своей актуализации в рамках полиса, как семя есть лишь возможность по отношению к растению, как яйцо - к курице (понятно, что в известном детском вопросе, что раньше - курица или яйцо, ответ Аристотеля был бы однозначным). Итак, полис изначальнее человека и обладает большей реальностью, чем отдельный человек. Человек по самой природе своей - часть полиса. Взятый безотносительно к своей хотя бы возможной социальной реализации человек - всего лишь зверь или некий демон. Т. е. совершенство, по Аристотелю, не просто достижимо, а есть сама действительность, то, что первично по отношению к тому, что находится в становлении. В этом формула аристотелевского перфекционизма. В аристотелевской онтологии всей полнотой бытия обладают первые сущности (конечные субстанции), и они первичны по отношению к своим формам и определениям, к тому, что мы обнаружим существенного в них. Аналогично субстанциональностью обладает полис, а человек или отдельная семья - это нечто абстрагированное от полисной жизни, помысленное как то, чему еще надлежит реализоваться в рамках полиса.
Сам полис мыслится Аристотелем в русле традиционализма с установкой на поддержание статичности, максимальной равновесности. В социально-экономическом смысле господствующей является идея справедливости как равенства в распределении благ, отсюда критика хрема-тистики (искусства накопления, науки об обогащении) и коммерческой деятельности. Характерное для обществ традиционалистского типа радикальное неприятие нового предполагает, что максимальная стадия совершенства уже имеет место, знание о существующих устоях жизни унаследовано от предшествующих поколений. Любое несовершенство или неустроенность временны и имеют причиной некий внешне привнесенный беспорядок, что может быть исправлено ситуативно. Если обратиться к социально-экономической сфере, понятия богатства и бедности связывались с возможностью ведения независимого и самостоятельного образа жизни, где потребности соответствуют достатку, а не с обладанием вещами или накоплением денег. Этому обществу соответствовал патриархальный уклад, основанный на обмене, взаимном даре (сюда во многом применимы категории «экономики палача» М. Мосса) [2].
В традиционном обществе жизнь в целом строится по заветам предков. Жизнь общества регулируется на основе традиций, обычаев, сложившихся образцов поведения. В такой организации общество стремится сохранить в неизменном виде сложившиеся в нем социокультурные устои жизни. Человек мыслит себя в единстве с космосом и воспринимает заведенный порядок жизни как нечто священное и не подлежащее изменению. Место человека в обществе и его статус определяется традицией и социальным происхождением. Этому традиционализму Аристотель придал развитую форму философской системы. Первый в истории систематик был систематиком и идеологом традиционализма. Именно нормативный элемент в аристотелевской социальной философии обусловливает ее идеологизм.
Именно Аристотель задал субстанционалистский взгляд на социальную реальность. Суть дела - в утверждении некой социальной субстанции - полиса, которому причастен человек по своей природе и который первичен по отношению к человеку. Если любое представление о социальном порядке связывается с идеей субстанциональности, такую установку можно назвать консервативной, или идеологической в широком смысле. Т. е. здесь происходит «натурализация» доступного нам понимания хода вещей как естественного. Здесь имеет место своего рода онто-логизация здравого смысла. Поэтому, простраивая линию Аристотеля в социально-философском контексте, мы с известной долей условности определим ее как идеологический, или «консервирующий», вектор. Строго по Мангейму: такой тип мышления, «который стремится к сохранению или постоянному репродуцированию существующего образа жизни» [3].
Наряду с субстанционализмом в идеологизме Аристотеля присутствует еще одна не менее важная тенденция, которая, впрочем, является продолжением субстанционализма: назовем ее отказом от социального конструирования. Именно этот аспект аристотелевской мысли и делает ее в полной мере противоположной по направленности утопической, или социально конструирующей, рефлексии и дает повод противопоставить линию Аристотеля линии Платона в социально-философской мысли.
В идее, что социальная реальность не поддается конструированию, наиболее отчетливо проявляется специфический аристотелевский эмпиризм. Аристотель был первым в истории мысли эмпириком, у которого эмпиризм не был связан с релятивизмом, как у софистов, но сочетался с системностью мышления. Конечно, речь не идет в его случае об эмпиризме в новоевропейском смысле, с экспериментом, наблюдением, индуктивными выводами и т. п. И все же Аристотель представляет собой методологическую противоположность платонизму, в котором главным источником знания является мистическое восхождение к мудрости, а носителем такого знания выступает мудрец (тот, кто смог выйти из «пещеры» к свету и вернулся, чтобы научить дру- гих). Источником знания может быть оракул, оно может быть получено из мистерий или священных преданий и т. п. К примеру, можно по-разному интерпретировать утверждение Платона о том, что количество жителей идеального полиса должно составлять 5040 человек. Является это производным от нумерологических вычислений (у этого числа 59 делителей) или это знание было дано ему в откровении - сказать трудно.
Аристотель рассуждал иначе. У него вообще не было склонности к математике и религии. В каждом отдельно взятом случае ему было важно составить достаточно полную картину существующих или когда-либо существовавших мнений, а затем пытаться разрешить возникающие противоречия. Неслучайно, он был известен как собиратель книг, подвергаясь из-за этого насмешкам со стороны того же Платона. В частности, известно, что Аристотель собрал 150 книг с описанием жизни греческих городов. В этом смысле его можно считать и первым социологом. Важно также, что он происходил из семьи врачей, а для врача недостаточно одного только умозрения и одной только теории, ему важны опыт и собственная интуиция в постановке диагноза. Т. е. он делает вывод ситуативно, на основе имеющихся знаний и отзывов (анамнеза). По Аристотелю, формула научного познания - сочетание опыта и интуиции. Соответственно, и критика отдельных социальных воззрений, высказанных в «Государстве» Платона, ведется им с позиций житейского опыта и здравого смысла. Так, например, критикуя платоновскую идею отказа от частной собственности, Аристотель отмечает, что частная собственность существовала всегда и везде, введение общественной собственности игнорировало бы весь известный человеческий опыт, было бы шагом в неизвестность.
Итак, Аристотель - это апологет наличествующего образа жизни и как раз в связи с этим его философия, как ни парадоксально, является вариантом оптимизма и весьма специфического эволюционизма. При этом Аристотель чужд идее прогресса, он гипостазирует наличествующие социальные условия жизни, ему присуща традиционалистская установка, при которой имеющиеся обычаи и устои жизни незыблемы, они первичнее и важнее участвующих в них людей. Обычаи и устои не придуманы людьми произвольно, поэтому люди просто должны следовать им и реализовать себя в них. Человеку не дано из своей головы выдумать универсальный социальный механизм, который устроил бы всех, и воплотить его в жизнь, поэтому он должен исходить из того, что есть, что сложилось.
В качестве наиболее яркого примера такого подхода, согласно которому общепринятые нормы не родились в головах отдельных людей, а порождены самой долговременной практикой, выступает римское право. Приведем слова римского юриста Катона Старшего: «наше <римское> государственное устройство лучше устройства других государств по той причине, …что наше государство создано умом не одного, а многих людей и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяжении жизни нескольких поколений. Ибо никогда не было такого одаренного человека, от которого не могло бы что-нибудь ускользнуть, и все дарования, сосредоточенные в одном человеке, не могли бы в одно и то же время проявиться в такой предусмотрительности, чтобы он мог обнять все стороны дела, не обладая долговременным опытом» [4]. Римское право было не изобретением законодателя или группы законотворцев, а результатом хозяйственной практики (в каком-то смысле это прототип прецедентного права). На основе решения судов и выводов интерпретаторов законов постепенно сформировалось единое понимание того, какими должны быть принципы хозяйственной и правовой деятельности. «Римское частное право представляло собой целый мир реально существующих вещей, которые были частью общего достояния всех римских граждан, - то, что можно было открыть или описать, но не принять и не ввести в действие. Никто не принимал этих законов, и никто при всем желании не мог их изменить» [5].
Традицию римского права мы можем рассматривать как первую веху становления консерватизма. Центральным структурообразующим аспектом здесь выступает частная собственность как неоспоримая ценность и принцип отказа от произвольного социального конструирования. Б. Леони отмечает: «Так называемые социальные реформы в современных европейских странах возможны только при условии отмены или модификации норм, которые очень часто восходят к правилам древнеримского частного права» [6].
Следующей значимой вехой в становлении консервативной мысли явилось христианство. Главным идеологообразующим началом с этого времени стала религия. В социально-философском плане христианство принесло дихотомию двух миров: небесного и земного. Реальное общество с религиозной точки зрения представляет собой теофанию: обнаружение трансцендентного начала в непосредственно доступном нам мире. Важным системообразующим принципом выступает церковь.
Консерватизм или идущий от Аристотеля традиционализм может быть определен как реализм в схоластическом значении этого слова, в смысле утверждения приоритета универсального над единичным. Бытие общества рассматривается в свете вечных метафизических идей и фундаментальных и вечных принципов. Здесь не оставлено места для произвольного конструирования общества и социальных экспериментов. Сама человеческая история понимается в этой мировоззренческой установке как арена борьбы более могущественных сил. Т. е. исторический процесс мыслится как нечто внешнее по отношению к роду человеческому. И общество есть нечто большее, чем только то, чем люди хотят быть и как они себя представляют, – в нем осуществляются цели и замыслы вселенского масштаба. С этим связан определенный фатализм христианского мировосприятия. Человечество с христианско-богословской точки зрения разделяется на два класса: на тех, «которые живут по человеку», и тех, «которые живут по Богу». Одним суждено вечно царствовать с Богом, а другим – вечное проклятье. Такова теория «двух градов» Августина, имевшая впоследствии огромное влияние в западноевропейской культуре. Человеческая история мыслится как бы в удвоении, разделяясь на сакральную и профанную, и отношение того и другого трактуется провиденциалистски – т. е. в смысле полной зависимости человеческой истории от промысла Всевышнего. Как и в философии Аристотеля, человек понимается как актуализация иных более значимых начал.
Подведем итог. Неотъемлемые составляющие консервативной мысли как мысли заведомо вне-утопической, стоящей на позициях реализма и соответствующей ей системы ценностей, – это традиционализм, институционализированная частная собственность и приверженность христианству. Для полноты представления концепции консерватизма в качестве существенной ее характеристики можно было бы добавить и характерный для западной культуры империализм, трактуя его как следствие концепции «двух градов» в мировоззрении западного христианства (общество в своем историческом и социальном бытии представляет реализацию единого замысла). Но не все христианские цивилизации разделяли ценность частной собственности, а зачастую и вообще пренебрегали этим институтом. На примере протестантского Запада частная собственность как ценность, одно из естественных прав и непременный атрибут капиталистического общества появляется в полноценном виде лишь после утверждения протестантизма, а если быть точнее – тогда, когда собственник стал предпринимателем и когда новая мораль благословила накопление. Методическое углубление верующим состояния собственной святости, ее контролируемое законом возрастание и совершенствование является знаком благодати [7]. Следовать методистскому принципу – стремлению к совершенствованию – здесь, как и повсюду, проистекает из его чисто эвдемонистического идеала: помочь людям ощутить блаженство.
Ссылки и примечания:
-
1. Рассел Б. История западной философии. М., 1993. Т. 1. С. 187.
-
2. Как справедливо замечают авторы учебника по истории экономических учений, высказанная еще на заре цивилизации Гесиодом в его знаменитой поэме проблема редкости благ, ставшая сегодня ключевым вопросом микроэкономики (распределение при ограниченности ресурсов), была просто проигнорирована классиками древнегреческой мысли, начиная с момента зарождения философии и заканчивая вершиной систематического анализа у Аристотеля. Если накопление запасов играет служебную роль, то потребность в них ограничена и может быть решена полностью, а стало быть, проблеме недостатка ресурсов просто нет места. См.: История экономических учений / под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М., 2002. 784 с.
-
3. Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы / сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. М., 1991. С. 115–116.
-
4. Марк Туллий Цицерон. Диалоги / пер. с лат. и коммент. В.О. Горенштейна. М., 1994.
-
5. Ротбард М.Н. К новой свободе. Либертарианский манифест. М., 2009. 398 с.
-
6. Леони Б. Свобода и закон. М., 2008. 308 с.
-
7. Weber M . Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. I. Tübingen, 1920.
Список литературы Перфекционистские мотивы в социально-философской мысли
- Рассел Б. История западной философии. М., 1993. Т. 1. С. 187
- История экономических учений/под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М., 2002. 784 с
- Мангейм К. Идеология и утопия//Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы/сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. М., 1991. С. 115-116.
- Марк Туллий Цицерон. Диалоги/пер. с лат. и коммент. В.О. Горенштейна. М., 1994.
- Ротбард М.Н. К новой свободе. Либертарианский манифест. М., 2009. 398 с.
- Леони Б. Свобода и закон. М., 2008. 308 с.
- Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. I. Tübingen, 1920.