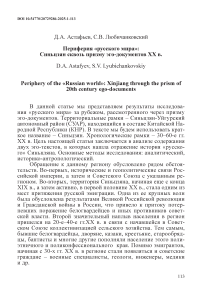Периферия «Русского мира»: Синьцзян сквозь призму эго-документов XX в.
Автор: Астафьев Д.А., Любичанковский С.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 1 (83), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования «русского мира» Синьцзяна, рассмотренного через призму эго документов, на примере анализа содержания мемуаров потомков русских эмигрантов - Д.Т. Зайцева и Е.И. Софроновой. Территориальные рамки - Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), находящийся в составе Китайской Народной Республики (КНР). Хронологические рамки исследования - 30-60-е гг. XX в. Цель настоящей статьи заключается в анализе содержания двух эго текстов, в которых нашла отражение история «русского» Синьцзяна. Основные методы исследования: аналитический, историко антропологический. Синьцзян, в отличие от других китайских регионов исторически не выступал ключевым центром русской эмиграции. Поэтому, количество дошедших до нас мемуарных свидетельств незначительно, что во многом определяет актуальность нашего исследования. Необходимо учитывать и то важное обстоятельство, что исторически указанный регион находился в орбите влияния Российской империи, а затем Советского Союза. Однако, несмотря на наличие обстоятельных работ, обращение к истории Синьцзяна нельзя назвать темой широко представленной в отечественном научном дискурсе, а используемые в них эго документы являются лишь одним из вспомогательных источников, позволяющих сформировать целостную картину в рамках изучаемого круга вопросов. Проанализированные авторами тексты обладают значительным информационным потенциалом в плане изучения «русского мира» Синьцзяна 30-60-х гг. XX в., поскольку в них представлена ценная информация об исторических событиях, происходивших на его территории, участии эмигрантов и их потомков в политической и военной жизни региона, повседневной жизни русского населения, взаимоотношениях представителей различных национальных групп и религиозных конфессий, их мировоззрении, представлениях и установках, а также отражено эмоциональное отношение самих авторов к происходившим событиям, людям, ситуациям.
«русский мир», синьцзян, эго документы, мемуары, русская эмиграция, старообрядцы, д.т. зайцев, е.и. софронова
Короткий адрес: https://sciup.org/149147703
IDR: 149147703 | DOI: 10.54770/20729286-2025-1-113
Текст научной статьи Периферия «Русского мира»: Синьцзян сквозь призму эго-документов XX в.
D.A. Astafyev, S.V. Lyubichankovskiy
Periphery of the «Russian world»: Xinjiang through the prism of 20th century ego-documents
В данной статье мы представляем результаты исследования «русского мира» за рубежом, рассмотренного через призму эго-документов. Территориальные рамки – Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), находящийся в составе Китайской Народной Республики (КНР). В тексте мы будем использовать краткое название – Синьцзян. Хронологические рамки – 30–60-е гг. XX в. Цель настоящей статьи заключается в анализе содержания двух эго-текстов, в которых нашла отражение история «русского» Синьцзяна. Основные методы исследования: аналитический, историко-антропологический.
Обращение к данному региону обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, исторические и геополитические связи Российской империи, а затем и Советского Союза с указанным регионом. Во-вторых, территория Синьцзяна, начиная еще с конца XIX в., а затем активно, в первой половине XX в., стала одним из мест притяжения русской эмиграции. Одна из ее крупных волн была обусловлена результатами Великой Российской революции и Гражданской войны в России, что привело к притоку потерпевших поражение белогвардейцев и иных противников советской власти. Второй значительный наплыв населения в регион пришелся на 20-е–40-е гг.XX в. в связи с начавшейся в Советском Союзе коллективизацией сельского хозяйства. Тем самым, бывшие белогвардейцы, дворяне, казаки, крестьяне, старообрядцы, баптисты и многие другие пополняли население этого полиэтничного и поликонфессионального края. Помимо эмигрантов, начиная с 30-х гг. XX в. в регионе стали появляться и советские граждане – военные специалисты, геологи, инженеры, медики и др.
Синьцзян стал для одних эмигрантов временным пристанищем на их сложном пути, а для других – обретенной родиной, в которой они нашли спасение. Поэтому до сих пор одной из официально признаваемых китайскими властями национальностей в регионе являются русские СУАР. Но в отличие от Шанхая или Харбина – ключевых центров русской эмиграции в Китае, Синьцзян таковым не являлся. Отсюда и не столь значительное количество, затрагивающих тему «русского мира» Синьцзяна, сохранившихся эго-документов. Однако Синьцзян стал своего рода хабом, в котором концентрировались и перераспределялись людские потоки, пересекались и сплетались человеческие судьбы. Все вышеуказанные аспекты в итоге и определили актуальность нашего исследования.
Основными источниками для написания данной работы выступили эго-документы, прежде всего, мемуары непосредственных участников исторических событий. Одной из главных особенностей таких источников является их субъективность, что нисколько не умаляет их значения для исследователя, поскольку они содержат в себе значительный информационный потенциал в контексте научных изысканий. Эго-документы стали одним из объектов изучения исторической науки вследствие произошедшего в ней в конце XX в. антропологического поворота. Их специфика определяется образованием, гендерной, сословной, классовой, профессиональной, политической, национальной принадлежностью, политической позицией, религиозными взглядами, мировоззрением автора и т.д. Автор всегда участник или наблюдатель событий.
В мемуарах сочетается одновременно, чаще всего достоверное описание объективных исторических фактов и событий при субъективном взгляде на них, однако текст не превращается при этом в художественное повествование. Еще одна их характерная черта – выраженная персонификация, поскольку для автора история – это, в первую очередь, судьбы конкретных людей. Особенность мемуаров заключается еще и в том, что они не пишутся в момент происходящих событий, в которые вовлечены авторы, а обычно спустя значительное время после них. Это означает, что пишущий не фиксирует здесь и сейчас происходящее, как это характерно для дневниковых записей, а делает это более обдуманно и осознанно, поскольку у него есть время для анализа собственной жизни, совершенных поступков, отношения к тем обстоятельствам, в которых автор вольно или невольно оказался.
Историю Синьцязна нельзя назвать темой, широко представленной в отечественном научном дискурсе, несмотря на наличие обстоятельных исследований К.В. Бармина, Д.В. Дубровской, Е.Н. На-земцевой, В.И. Петрова и других ученых, обращавшихся к данной проблематике1. Но данные работы представляют широкий пласт непосредственно истории региона, русской эмиграции в СУАР, отношений Советского Союза и Синьцзяна и т.д. Н.Н. Аблажей в монографии, посвященной истории российской эмиграции в Китае, освещает вопрос репатриации советских граждан из Маньчжурии и Синьцзяна2. В книге А.А. Хисамутдинова, посвященной истории русских старообрядцев, оказавшихся разбросанными практически по всему миру, также представлен небольшой раздел, посвященный периоду их проживания в Синьцзяне3.
Но для большинства вышеуказанных исследований эго-документы являются лишь одним из вспомогательных источников, позволяющих дополнить картину в рамках изучаемого круга вопросов. Научные публикации, в которых прямо или косвенно рассматривается определенные аспекты жизни «русского» Синьцзяна, немногочисленны, что также определяет актуальность нашей работы4.
Эго-источники, на которые мы опираемся в данном исследовании, объединяет то, что это, во-первых, воспоминания потомков русских эмигрантов Синьцзяна, во-вторых, авторы в своих текстах останавливаются на исторических событиях, имеющих общую хронологию. В целом, важно отметить, что мемуаров, в которых отражены определенные аспекты жизни «русского мира» Синьцзяна с точки зрения эмигрантов или их потомков, несравнимо мень-ше5, чем, например, по Харбину или Шанхаю. Это также является одной из особенностей изучения заявленной темы.
В ходе исследования мы остановились на двух эго-текстах. Первое произведение – «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева». Автор – крестьянин-старообрядец часовенного согласия, последователи которого преимущественно были представлены непосредственно на территории Синьцзяна6. Он родился в регионе в 1959 г., но в дальнейшем его семья перебралась в Южную Америку. Второе – это мемуары Екатерины Ивановны Софроновой под названием «Где ты, моя Родина?». Автор родилась в семье эмигрантов в 1941 г. в г. Кульдже (Инин), который наряду с гг. Урумчи и Чугучаком, выступал одним из ключевых центров русской эмиграции в регионе. Одна из особенностей эго-источников заключается в том, что их авторы родились в Синьцзяне, и его образ для них – это не образ Другого, чего-то чуждого для них, даже несмотря на то, что Зайцев прожил в регионе всего лишь первые два года своей жизни. В отличие от них, к примеру, для русских офицеров-эмигрантов Китай представлялся в трех основных ипостасях: «Китай экзотический, Китай отсталый и неспособный к самостоятельному прогрессивному развитию, Китай как угроза»7.
Как отмечается в предисловии к изданию «Повести и жития», автор «незаурядная личность сама по себе и, одновременно, представитель особого старообрядческого мира с особенной исторической судьбой»8.Истоки появления старообрядцев в Китае, и непосредственно в Синьцзяне, относятся еще к XIX в. Относительно Синьцзяна стоит отметить тот факт, что Д.Т. Зайцев прожил в регионе недолго, в период с 1959 по 1961 гг., и фактически мы не можем рассматривать представленное в книге описание, как его личные воспоминания. Это, по сути, семейные, общинные нарративы, воспроизведенные автором. Однако это нисколько не снижает их ценности, поскольку, это единственные мемуары представителя старообрядческого мира не только Синьцзяна, но и, пожалуй, в целом Китая. Да и встраивание в собственный эго-текст свидетельств других людей, в первую очередь, ближайших родственников, явление в мемуаристике распространенное, к примеру, Е.И. Софронова также начинает свою книгу главой «Воспоминания моей мамы».
В 30-е гг. XX в. на территории Синьцзяна участились вооруженные конфликты между представителями различных народов и конфессий, что также отразилось и на старообрядцах. Одним из ключевых событий стало Кумульское восстание (1931–1934 гг.), в котором приняли участие мусульманские народы провинции, а одними из руководителей стали руководитель уйгурских отрядов Ходжа Ниязидунганский военачальник Ма Чжунъин. К 1933 г. начались интенсивные нападения дунган на китайские земли, и чаще всего это касалось именно Синьцзяна и его северной части (округ Алтай). Вот с этих событий и начинает свое повествование Данила Зайцев. Автор указывает на важную роль, которую сыграли старообрядцы в противоборстве между дунганами и китайцами. Видно, что автор гордится своими предками, хорошими охотниками и воинами, или как он еще их называет бородачами. «Дунганы почувствовали силу русских, пошли на отступление»9.
Это проявление определенного аспекта локализации исторических событий, поскольку предки Данилы Терентьевича наблюдали за ними со своего конкретного ракурса. Мир для них – это община, в которой нет места чужим, и не столько по происхождению, а, в первую очередь, по вероисповеданию. И это не обязательно только мусульмане, но и советские атеисты, и православные белогвардейцы. К примеру, в тексте абсолютно нет никаких упоминаний белогвардейских офицеров и солдат под командованием полковника П.П. Паппенгута, успешно участвовавших в боях с восставшими на стороне китайцев. Однако, с другой стороны, стоит подчеркнуть и тот факт, что в современных научных публикациях практически не раскрывается тема мобилизации старообрядцев в периоды воен- ных действий в Синьцзяне, за исключением статьи японского исследователя Цутома Цукада10, при одновременном наличии значительного количества работ, освещающих участие белоэмигрантов в конфликтах на территории как самого Китая, так и исследуемого региона11.
Зайцев отмечает роль советского влияния в регионе, в орбите которого он долгое время находился и которое, несомненно, в этот период значительно себя проявляло. Например, автор пишет: «У дунганов было хорошее оружие, откуда оно – конечно, советское, а у наших самоделашно, вот и отбивайся как хошь»12.Данила Терентьевич периодически в тексте останавливается на «советской» теме, которая всегда описывается в негативном свете. Автор тем самым выражает коллективную позицию старообрядцев, выраженную как минимум в недоверии к «советским».Они для них плохие, потому что не держат обещаний, обманывают, творят зло по отношению к людям. «А в деревнях появились советские консула и стали агитировать, чтобы вернулись на родину, сулили горы: «Ничто вам не будет, нарежут вам земли, и будете жить спокойно, в России свободно». Но мало хто им верил. Слухи были противоположны: в России народ голодовал и жили нищими»13.
Данила Зайцев показывает и другую проблему – разделение и самих старообрядцев, причем даже в одной семье: «В деревнях получились две партии: красные и белые. У красных была власть, и оне творили что хотели, грабили, били, издевались – над своими же.<…> Все эти красные имели советские паспорта»14. Автор говорит и пишет так, как считала его семья на тот момент, не особо стесняясь в выражениях, к примеру, описывая такую семью, в которой представители выбрали противоположные стороны: « <…> а сынок Яков Васильевич – красный атеист, изъедуга, кровопи-вец»15.
Еще одна канва повествования – события 40-х гг. XX в., когда в регионе существовала Восточно-Туркестанская республика (ВТР). Губернатором Алтайского края в это время стал Оспан-ба-тыр – лидер казахского национально-освободительного движения в Синьцзяне. К 1946 г. он перешел на сторону китайской партии Гоминьдан, и стал в итоге воевать против ВТР. Как следствие, старообрядцы оказывались постоянно между противоборствующих сторон, которые стремились мобилизовать мужское население в свои воинские подразделения. «Тут появился новый вождь, Оспан-Батур, каргызин, и собирал войско – всех, кто попадал под руки. Хто не шел, того казнил, так что и русским пришлось пойти служить Оспану. Опять же политика была советская, советские дали Оспану оружие и дали флаг красный со звездой и полумеся- цем. <…> На ету войну попали дяди Ефим Шутов, деда Мануйла Сергеевич Зайцев, хотя оне и не были на дунганской войне. Тяте тоже было восемнадцать лет, он тоже попал на службу, прослужил один год и пошел на войну»16.
Далее в тексте Данила Терентьевич указывает и на то, что и Советский Союз мобилизовал старообрядцев: «Советские открыли експедицию в Китай, и добровольсов принимали хорошо и платили хорошо. <…> Тогда тятя ушел в експедицию и работал у советских, и много русских так поступили»17. Суждения Данилы Терентьевича прямолинейны и не ограничены ни идеологическими рамками, ни желанием кому-либо угодить. Автор пишет о том, как его предки видели историю, творящуюся на их глазах. Он – их голос, и его позиция ничем не отличается, несмотря на то, что он не являлся наблюдателем и участником событий. Вот, к примеру, один из примечательных пассажей в тексте повествования: «У Оспана было два русских офицера: Никифор Студенко и Лаврен Рыжков. Лаврен был идивот, трус и так далея, Никифор был герой, любимый солдатами и так далея»18. Для автора главной ценностью выступают личные качества и поступки человека. Исторические события Данила Терентьевич оценивает с этой позиции.
Еще на одном эпизоде в истории семьи останавливается Данила Терентьевич: «Про деда Мануйла никаких новостей, но знали, что он ушел с Жёлбарсом»19. Жёлбарс – это Юлбарс-хан, один из уйгурских военачальников, сражавшийся против Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 40-е гг. XX в., который до 1951 г. скрывался в Синьцзяне, а затем через Тибет сначала добрался до Индии, а затем перебрался на Тайвань. Группа русских в количестве 23 человек ( Д.Т. Зайцев указывает цифру в 25 человек – прим. авторов ), в числе которых был и дед автора, под командованием КиприанаЧанова переходят через Тибет и Индию, а затем в 1952 г. прибывают в США, в Нью-Йорк20. «Наши русские, двадцать пять человек, через американское консульство попали в Америку, в Нью-Йорк»21.
Тем самым, вышеуказанные примеры из текста Д.Т. Зайцева показывают нам, что в большинстве своем старообрядцы, проживавшие в регионе, оказывались в гуще событий, происходивших в неспокойном регионе, и периодически сами становились участниками вооруженных конфликтов, поскольку в их вероучениях не было запрета воевать и применять оружие.
В тексте есть еще упоминание: «Тут появился советский какой-то Лескин. Но его политика уже была – русских вернуть в Россию, а китайцев усилить во всем регионе. <…> Русских старообрядцев стали притеснять, чтобы вернулись на Родину»22. «Какой-то Лескин» – это Фотий (Фаттей) Иванович Лескин (кит. Ли-Дуджан), китайский военный деятель русского происхождения, генерал-лейтенант НОАК, по некоторым свидетельствам, происходивший из семьи старообрядцев. К этому времени Синьцзян уже стал входить в состав КНР. В этом отрывке речь идет о начавшемся процессе репатриации эмигрантов из Китая, в т.ч. и с территории Синьцзяна, в Советский Союз23. Автор отмечает расхождение между обещаниями и реальностью: «На границе их обобрали и оставили без ничего. Вот тебе и земли и свобода!»24.
Но также часть старообрядцев решила эмигрировать в другие страны, преимущественно в США, Австралию, Аргентину, Бразилию и др. Исходя из слов Данилы Терентьевича, представление об южных странах у старообрядцев было идиллическое: «Говорили, что там калачи висят на кустах, не надо сеять, а жизнь как в сказках, все доступно»25. Семья Зайцевых также отправилась в «края обетованные», в итоге они сначала оказались в Гонконге, а затем переселилась в Аргентину.
Повествование Зайцева отражает особенности повседневной жизни и быта старообрядцев, проживавших в регионе. В нем подчеркивается и то, как менялись, зачастую, поведение, установки, восприятие религиозных традиций отдельными представителями общины по мере их взаимодействия с внешним миром. Особенно это проявлялось у мужчин, отправившихся на военную службу или добровольцами в «экспедицию к советским», как пишет автор. Показывает он эти изменения, в частности, на примере собственных родственников – отца и дяди. «Тятя на службе и на експедиции нахватался вредных привычек: пить напитки, курить, ходить по девкам, материться»26.
Отмечает автор и выявившуюся при встрече в Гонконге разницу между синьцзянскими и харбинскими старообрядцами в том аспекте, что у первых не было общинной замкнутости, проявления религиозной строгости и нетерпимости и т.д. Вот как об этом пишет Данила Терентьевич: «У синьцзянсов в Китае в деревнях были и неверующи, и разного согласия, и друг другу не мешали и жили дружно»27.Как показывают исследования, эти отличия сохранялись между группами старообрядцев, эмигрировавших из разных регионов Китая, например в страны Латинской Америки, даже на уровне определения большей правильности речи28.
Итак, мы рассмотрели эго-текст Данилы Терентьевича Зайцева, показывающий, с одной стороны, мир русских старообрядцев Синьцзяна, а с другой, отражающий некоторую интерпретацию тех исторических событий, непосредственными участниками которых стали его предки. Автор транслирует историческую память общины через собственное повествование таким образом, что мы уже не разделяем их коллективные образы, представления и субъективный текст, написанный их потомком. Они образуют целостное и уникальное единство. Для старообрядцев в целом характерна устная традиция передачи свидетельств об истории рода и семьи. Данила Терентьевич – один из немногих представителей данного сообщества, кто решил написать о своих предках и собственной жизни, выразив это в литературной форме. Относительно описания истории Синьцзяна, мы никак не можем утверждать, что помимо устного семейного нарратива, автор опирался на иные источники, поскольку Д.Т. Зайцев учился всего четыре года в аргентинской школе, а русский язык постигал с помощью крестной матери. Тем самым, повествование характеризуется аутентичностью высказываний, что и делает его интересным источником по истории «русского мира» Синьцзяна.
Обратимся теперь к мемуарам Екатерины Ивановны Софроновой, проведшей свое детство и юность в Синьцзяне. Ее родители эмигрировали из Советского Союза в 30-е гг. XX в. В мемуарах описание жизни семьи, да и в целом русской общины Синьцзяна, занимает только определенную часть книги, поскольку автор со временем переехала в Австралию, а затем в США. Это тоже одна из особенностей жизни эмигрантов в этом регионе, поскольку, зачастую, он становился для них лишь временным пристанищем. В одних случаях люди двигались дальше, уезжая в другие страны, либо репатриировались обратно на родину. Для ребенка характерно в большей степени эмоциональное отношение к происходящему вокруг, но не будем забывать и о том, что мемуары пишут взрослые люди, в текстах которых детские эмоции, чувства, радости и огорчения соединяются с накопленным пережитым опытом, а также в них появляется анализ событий, происходивших на протяжении их жизни.
Екатерина Ивановна предваряет собственные мемуары записанными воспоминаниями ее мамы, для того, чтобы осветить историю появления их семьи в Синьцзяне. Это была уже вторая крупная волна эмигрантов в этот регион, бежавших от начавшейся в Советском Союзе коллективизации сельского хозяйства. Люди думали, что это только на некоторое время, и они вернутся на родину, но многим не суждено было этого сделать. Екатерина Ивановна также отмечает данное обстоятельство: «Но утешение вскоре сменилось безвыходным положением, когда они поняли, что возврата домой не предвидится и состояться ему не суждено. Оставалось сделать одно: смириться и устроить свою жизнь так, чтобы она была терпимой»29.
Во вводной части автор описывает некоторые вехи истории русских эмигрантов в Западном Китае, например, упоминает об убий- стве атамане А.И. Дутова и ключевой роли в этом представителей СССР, а заканчивает абзацем опять «про какого-то Лескина», как выразился на страницах своей книги Данила Зайцев. Однако информация об этих событиях – это встроенный в мемуары рассказ одного знакомого ей человека, еще и с отсылкой к историям старого уйгура. В этом наблюдается некоторая общность исследуемых нами мемуаристов, которые обращаются при написании воспоминаний к устному нарративу их предков, родственников, знакомых. То обстоятельство, что в обоих мемуарах есть обращение к фигуре Ф. Лескина, и указание на его связи с Советским Союзом, говорит нам о том, что он играл далеко не последнюю роль в политической жизни региона. «Молодому Лескину советским правительством было дано и другое поручение: поднять восстание трех округов в Китае (Илийском, Алтайском и Тарбагатайском), которое с помощью кой-каких русских он выполнил с большим успехом»30. Конечно, его история обрастает при этом слухами и предположениями, что вполне характерно для мемуарной литературы, не претендующей на абсолютную точность и научность при воспроизведении исторических событий и фактов. Отметими тот факт, что в отличие от ряда других военных и политических деятелей, связанных с Синьцзяном, биография Лескинав целом незначительно исследована.
В тексте представлено описание г. Кульджи, его разнообразного населения, природных и климатических условий. Автор подчеркивает, что люди, несмотря на разницу в происхождении, жили в согласии, и практически без происшествий. И это ведь при том что регион часто воспринимался как мятежный и беспокойный, но обычные люди научились спокойно и мирно сосуществовать. Екатерина Ивановна достаточно часто подчеркивает и то обстоятельство, что жизнь «до коммунизма» (т.е. до вхождения Синьцзяна в состав КНР – прим. авторов) в городе и провинции по многим показателем отличалась в лучшую сторону. Приведем следующую цитату: «До коммунизма улицы каждый вечер летом поливались, часто подметались, а осенью на них сгребались в кучи, падавшие с деревьев листья и потом поджигались»31. Причем негативные изменения коснулись, с ее точки зрения, очень многих сторон жизни общества, даже еды: «Тогда я вспомнила мясные уйгурские пирожки, что продавались в Кульдже до коммунизма. Какими они были вкусными!»32. И так, в общей сложности, словосочетание «до коммунизма» встречается в тексте мемуаров 9 раз. Есть и другое – «при коммунизме», обычно также применяемое с негативной коннотацией. Например, по словам Екатерины Ивановны: «Бабы-сплетницы при коммунизме стали групповодами, и они бегали потом по домам, а у самих глаза на все четыре стороны: они все видели, все слышали, все замечали и своих господ информировали. <…> Вообще власть перешла не порядочным людям»33.
Достаточно подробно в мемуарах описывается жизнь местного населения, как уйгуров, таки русских семей (занятия, хозяйство, жилище, сохранившихся русских традициях и т.д.). Это делает их ценным источником по истории повседневности «русского» Синьцзяна исследуемого периода. В «детской» части мемуаров идет, в частности, еще речь о том, что семья была вынуждена переживать сложные времена в связи с войной. «Беспокойство взрослых быстро передалось нам, хотя мы и не понимали, что такое война»34. Со временем, автор, будучи взрослой, осознала, что за важные события происходили в это время в регионе, а именно создание в ходе начавшихся восстаний в 1944 г. Восточно-Туркестанской республики – государственного образования, в значительной степени зависевшего от Советского Союза. Эта республика просуществовала до 1949 г., и в этом же году практически все его правительство, летевшее на встречу в Пекин, при окончательно невыясненных до сих пор обстоятельствах, погибло в авиакатастрофе. Из воспоминаний Софроновой: «Мне запомнились грустные лица уйгур, рассказывавших о происшедшем и о выдающихся заслугах некоторых погибших своих руководителей»35. В итоге Синьцзян вошел в состав КНР, а в 1955 г. на его территории был образован Синьцзян-Уйгурский автономный округ.
С учетом того, что в основном мемуары Екатерины Ивановны, затрагивают именно период ее детства в Синьцзяне, в тексте проявляется особенность восприятия ребенком исторических событий, личностей и т.д. Ребенок не анализирует, не пытается выявить причинно-следственные связи, он просто живет и дает свою эмоциональную, субъективную, простую оценку. Приведем одну небольшую цитату в качестве примера: «Но из всех мне больше всего почему-то запомнился портрет Сталина, о котором мама говорила, что он безбожник, и что он сделал очень много злого. Слушая ее, мне его было очень жаль, и очень мне тогда хотелось, чтобы он был хорошим человеком»36.
В мемуарах Софроновой мы находим описание также того, как было устроено русское образование в Синьцзяне. В г. Кульдже на тот момент функционировали начальная и средняя школы, а несколько позже появилась еще одна средняя школа под названием «Сталин-ская»37. Обучаться в этой школе могли только дети, у которых родители имели советское гражданство. Екатерина Ивановна уделяет внимание при описании школьного образования не только тому, как был организован учебный процесс, но также усилению со временем идеологического воспитания в коммунистическом духе. Мемуарист фиксирует: «Коммунизм начал проявляться не только в обществе, в жизни людей, но и в школе»38. И вот опять мы видим разницу восприятия ребенка и взрослого, только автор уже сама анализирует это на страницах книги. «А иногда вставал передо мной неразрешимый вопрос: «Что бы наши родители сделали, если бы узнали, что мы ходили по улицам, прославляя власть, которая сломила их жизнь у самого ее корешка и развеяла их, как сухую пыль, по миру? Неужели они забрали бы нас из школы?» А мы сами, ничего не понимая, делали все, что от нас требовали»39.
Автор, как и Д.Т. Зайцев в своих мемуарах, описывает и начавшийся процесс репатриации русского населения из Китая, несмотря на то, что население не было уверено в лучшей жизни на бывшей родине, однако многие стали возвращаться. «Так одна из наших родственниц сказала, что если у них будет трудная жизнь, то она в письме своем будет ее хвалить, но на письмо покапает водой, что будет значить, писала со слезами. Получили мы письмо не только со следами капель, но письмо совершенно все залитое водой, что говорило о том, как трудно им жилось на «родине»»40. Только спустя годы автор узнала некоторые подробности того, почему же для репатриантов обещания и реальность оказались отличны. В частности, «абсолютное большинство репатриантов, прибывших из КНР в 1954 г. разместили первоначально в сельской местности, в районах освоения целинных и залежных земель»41.
В эти годы количество русского населения в Синьцзяне, как и в целом в Китае, стало сокращаться, за счет репатриации в Советский Союз и эмиграции в другие страны. К примеру, в 1955 г. в СССР въехало из СУАР 65 тыс. человек42.В итоге в 1960 г. семья Софроновых по примеру многих других русских семей также выехала из Синьцзяна, отправившись в Гонконг, а затем в Австралию.
Итак, второй рассмотренный нами текст – мемуары Екатерины Ивановны Софроновой – представляет собой важный источник по повседневной жизни «русского» Синьцзяна, поскольку автор подробно, начиная с собственного детства, описывает жизнь простых семей эмигрантов, что дает нам возможность погрузиться в их аутентичный мир. Несмотря на утраченные и разорванные связи с прежней родиной, эти люди сохраняли язык и традиции своего народа. В воспоминаниях мы видим и картину того, как после включения Синьцзяна в состав КНР усиливается влияние коммунистической идеологии на население региона. Интересен и тот аспект, отмеченный автором, как по-разному воспринимает ребенок и взрослый происходящие перемены. «Синьцзянский» период в жизни Е.И. Софроновой заканчивается в 1960 г. в связи с эмиграцией из Китая.
Таким образом, в настоящем исследовании авторы рассмотрели и проанализировали историю и особенности «русского мира» Синьцзяна30–60-х гг. XXв. через призму эго-документов на примере двух образцов мемуарной литературы. Объединяет авторов то, что они потомки эмигрантов и родились в Синьцзяне. Общность мемуаров также заключается в том, что авторы в своих текстах затрагивают исторические события, имеющие общую хронологию. Единственное, старообрядец Данила Зайцев прожил в регионе всего лишь два первых года жизни, а Екатерина Софронова детство и юность. Поэтому Данила Терентьевич фактически отражает в своих воспоминаниях устный общинный нарратив его предков, а Екатерина Ивановна представляет собственное видение истории «русского» Синьцзяна.
Однако, несмотря на свои отличительные особенности, данные источники обладают значительным информационным потенциалом в плане изучения «русского мира» Синьцзяна 30–60-х гг. XX в., поскольку в них представлена ценная информация об исторических событиях, происходивших на его территории, участии эмигрантов и их потомков в политической и военной жизни региона, повседневной жизни русского населения, взаимоотношениях представителей различных национальных групп и религиозных конфессий, их мировоззрении, представлениях и установках, а также отражено эмоциональное отношение самих авторов к происходившим событиям, людям, ситуациям.