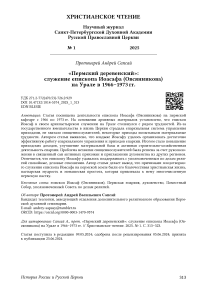«Пермский деревенский»: служение епископа Иоасафа (Овсянникова) на Урале в 1966-1973 гг.
Автор: Сапсай А.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена деятельности епископа Иоасафа (Овсянникова) на пермской кафедре с 1966 по 1973 гг. На основании архивных материалов установлено, что епископ Иоасаф в своем архипастырском служении на Урале столкнулся с рядом трудностей. Из-за государственного вмешательства в жизнь Церкви страдала епархиальная система управления приходами, не хватало священнослужителей, некоторые приходы испытывали материальные трудности. Автором статьи выявлено, что владыке Иоасафу удалось организовать достаточно эффективную работу епархиального управления и приходов епархии. Итогом стало повышение приходских доходов, улучшение материальной базы и активная строительно-хозяйственная деятельность епархии. Проблема нехватки священнослужителей была решена за счет рукоположения в священный сан активных прихожан и приглашения духовенства из других регионов. Отмечается, что епископу Иоасафу удавалось поддерживать с уполномоченным по делам религий спокойные, деловые отношения. Автор статьи делает вывод, что причинами плодотворного служения епископа Иоасафа на пермской земле были его благочестивая христианская жизнь, пастырская мудрость и монашеская простота, которая привлекала к нему многочисленную пермскую паству.
Епископ иоасаф овсянников, пермская епархия, духовенство, поместный собор, уполномоченный совета по делам религий
Короткий адрес: https://sciup.org/140309282
IDR: 140309282 | УДК: 271.2-772(470.53)-726.2:929 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_313
Текст научной статьи «Пермский деревенский»: служение епископа Иоасафа (Овсянникова) на Урале в 1966-1973 гг.
В период руководства советским государством Л. И. Брежневым с 1964 по 1982 гг. власть отказалась от открытого противостояния с Церковью и религией в стране. Однако благодаря «приходской реформе» 1961 г. в СССР была создана многоуровневая система государственного контроля за церковными организациями, духовенством и верующими. Местная власть добивалась от Церкви строгого выполнения советского законодательства о религии, стремилась оказывать влияние на все стороны церковной жизни. Уполномоченные по делам религий назначали членами церковных советов своих доверенных лиц, держали под контролем все их действия, препятствовали епархиям выстраивать эффективную систему управления приходами. В данных условиях строжайшего контроля возрастала роль высшего духовенства Русской Православной Церкви — архиереев, которым необходимо было правильно выстраивать отношения с гражданской властью, управлять епархиальными церковными структурами и быть духовным авторитетом для духовенства, приходских сотрудников и верующих.
Служение высшего духовенства Русской Православной Церкви в 1960-1970-х гг. в современной церковно-исторической науке подробно исследовано в трудах М. В. Шкаровского, прот. В. Цыпина, Д. В. Поспеловского [Шкаровский, 2010; Цыпин, 2006; Поспеловский, 1995]. Тем не менее служение епископов в Прикамье рассмотрено неполно, лишь деятельность некоторых из них с 1958 по 1964 гг. рассмотрена в исследованиях прот. А. Марченко [Марченко, 2011б; Марченко, 2010]. Цель данной статьи — выявление особенностей служения еп. Иоасафа (Овсянникова) на пермской кафедре с 1966 по 1973 гг. В рамках исследования использованы неопубликованные документы из Государственного архива Пермского края (фонд Уполномоченного Совета по делам религий при Совете министров СССР по Пермской области), документы из архива канцелярии Пермской епархии Русской Православной Церкви (служебная документация епархиального управления, переписка с Московской Патриархией) и воспоминания современников.
Епископ Иоасаф1 был назначен на пермскую кафедру в неспокойный для епархии период. 8 октября 1966 г. его предшественник, архиеп. Леонид (Поляков), который присоединился к группе епископов, несогласных с навязанными Церкви во времена хрущевских гонений изменениями в церковном управлении, был назначен в Рижскую епархию. Советской власти, недовольной активной общественной позицией архиеп. Леонида, был нужен более лояльный и послушный власти управляющий епархией. По мнению архим. Стефана (Сексяева), являвшегося с 1967 по 1977 г. секретарем Пермской епархии, избранию архим. Иоасафа в епископский сан посодействовал митрополит Ленинградский Никодим (Ротов). Когда подбирали нового управляющего на «проблемную» пермскую кафедру, митр. Никодим вспомнил о своем однокурснике, с которым обучался на заочном секторе Ленинградской духовной семинарии и академии, и рекомендовал его кандидатуру (Стефан Сексяев, 2021).
Ко времени избрания на пермскую кафедру архим. Иоасафу было уже 62 года, он являлся опытным и зрелым священнослужителем и, несомненно, понимал, какие испытания ему предстоят. Перед возведением в сан епископа в своей речи к Святейшему Патриарху Алексию I и присутствующим архипастырям он сказал: «Усердно помолитесь Великому Пастыреначальнику Христу, чтобы он даровал мне духа той силы, которая помогла бы мне мудро управить вверяемое мне ныне стадо Христово, чтобы он даровал мне духа такой любви, которая согрела бы сердца и души многих верующих людей, вручаемых ныне моему окормлению, чтобы даровал Он мне и духа того целомудрия, которое явилось бы примером для будущих моих соработников — пастырей и служителей церковных» [Иоасаф Овсянников, 1966, 28].
3 ноября 1966 г. еп. Иоасаф совершил свою первую службу в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми. Как и его предшественник архиеп. Леонид, он сразу понравился пермякам своим неторопливым и торжественным служением. Клирик кафедрального собора прот. Владимир Жохов в личном дневнике записал в этот день, что новый владыка впервые совершил всенощное бдение в сослужении местного духовенства и своим благоговейным служением произвел весьма благоприятное впечатление (Жохов, 1969, 104).
Предшественник нового владыки архиеп. Леонид последнее время редко служил в кафедральном соборе, предпочитая совершать богослужения в храме Всех святых г. Перми. Это было связано с его конфликтом с церковным советом собора во главе со старостой И. Ф. Байдаровым. Являясь настоятелем Свято-Троицкого собора, архиеп. Леонид требовал от приходского совета приобрести для храма новые иконы и священническое облачение, обновить и улучшить внутреннюю обстановку в главном храме епархии. Однако эти просьбы вызывали лишь гнев и негодование председателя церковного совета, который регулярно докладывал уполномоченному по делам религий о незаконных требованиях епископа (см.: [Марченко, 2011а, 56]). Епископу Иоасафу необходимо было восстановить нормальные взаимоотношения как с уполномоченным, так и со старостой. Для этого архиерейские богослужения вновь стали регулярно совершаться в Свято-Троицком соборе. Чтобы оградить себя от конфликтных ситуаций и не давать повода для критики, владыка назначил настоятелем собора архим. Иоанна (Чувызгалова) (АПЕУ. Ф. 1. Д. 4–206. Л. 50).
Епископ Иоасаф не имел административного опыта управления епархией, поэтому первое время делал это с большой осторожностью. В отчете за 1966 г. уполномоченный А. Сонько отмечает: «Свою власть правящего епископа перед служителями епархиального управления и духовенством не выпячивает и старается все вопросы решать тихо, мирно. С духовенством пока ни с кем не сошелся и не старается кого либо приблизить к себе. Но когда служители культа обращаются за помощью он всячески старается оказать такую помощь. Совсем недавно священник сельского прихода Старков, будучи у него на приеме пожаловался, что семья большая и трудно живется. Епископ дал ему 100 рублей денег из своих наличных. И конечно такая доброта епископа не остается не замеченной среди духовенства и рядовых верующих» (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 19. Л. 21).
Однако уже через год служения на пермской кафедре еп. Иоасаф предпринимает более активные действия в управлении епархией. В 1967 г. он отстранил от должности секретаря епархии прот. Владимира Коряка. По воспоминаниям архим. Стефана (Сексяева), при предыдущих архиереях прот. В. Коряк фактически единолично управлял епархией и все служебные вопросы в обязательном порядке согласовывал с местным уполномоченным. Это не понравилось еп. Иоасафу, который предпочитал руководить епархией самостоятельно и не осведомлять советского чиновника обо всех внутренних делах Церкви. Новым епархиальным секретарем, по рекомендации уполномоченного, был назначен клирик кафедрального собора свящ. Иоанн Сексяев.
Состав сотрудников епархиального управления также изменился. Для нового архиерея было принципиально важно, чтобы его помощники были верующими людьми (Стефан Сексяев, 2021).
Другим важным действием руководителя епархии стала попытка подчинить себе церковный совет кафедрального собора. Для этого еп. Иоасаф использовал подчиненное ему духовенство. 20 февраля 1968 г. священнослужителями собора было направлено письмо председателю Совета по делам религий В. А. Куроедову с требованием отстранить старосту и других членов приходского совета от работы в храме. В данном обращении духовенство указывало на многолетнее диктаторское отношение членов исполнительного органа к прихожанам и духовенству храма: «Староста Байдаров настолько грубо, беспардонно и вызывающе по-хамски ведет себя не только с народом, но даже и по отношению к духовенству. Ему ничего не стоит оскорбить любого члена причта всякими нецензурными словами. Недавно настоятеля храма архим. И. Чу-вызгалова он назвал прямо в глаза „свиньей“». Авторы письма отмечали грязь, беспорядок в храме, а также незаконное присвоение материальных средств, нежелание членов церковного совета, которые ссылались на указания уполномоченного, выполнять требования управляющего епархией (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 3. Д. 110. Л. 20–24). Сам еп. Иоасаф открыто не ставил вопрос о замене церковного совета, но, по наблюдениям уполномоченного, явно поддерживал инициативу духовенства. Так, 6 мая 1968 г. в кафедральном соборе во время проповеди он сказал: «У нас есть в Церкви люди, которые изъедают человека и таким людям в нашем храме нет места» (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 1. Д. 17. Л. 107). Тем не менее, несмотря на предпринятые усилия, церковный совет в полном составе продолжил свою работу в главном храме епархии.
В 1960-х — нач. 1970-х гг. одной из главных проблем епархиальной жизни была нехватка приходского духовенства. В ежегодных епархиальных отчетах в Московскую Патриархию владыка Иоасаф отмечал, что во многих приходах служат священнослужители престарелого возраста, а замены им нет. Действительно, если в 1965 г. количество молодого духовенства до 40 лет составляло 45 человек (60%) (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 16. Л. 2), то в 1972 г. в возрасте до 40 лет было 17 человек (26%), от 41 до 60 лет — 23 (35%), старше 60 лет — 26 (39%) (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 29. Л. 64). Протоиерей В. Цыпин отмечает, что большой дефицит священнослужителей наблюдался во многих регионах страны. Причинами тому являлись сокращение количества духовных семинарий и общее уменьшение числа их учащихся. Кандидатов в священство не хватало для того, чтобы заменить умирающее по естественным причинам духовенство (см.: [Цыпин, 2006, 525]). Епархиальным архиереям приходилось возводить в священный сан благочестивых мирян, обычно с низким общим образованием и отсутствием духовного. Однако Совет по делам религий старался всячески препятствовать данной практике. Советские чиновники были убеждены, что в духовных учебных заведениях в будущих священнослужителях воспитывают уважение к советскому законодательству о религии и, таким образом, более правильно посвящать в духовный сан выпускников духовных школ (см.: [Шкаровский, 2010, 394]).
Для подготовки и обучения будущих священно- и церковнослужителей каждый год из Пермской епархии в духовные семинарии отправляли 2–3 абитуриента. В 1966 г. в духовных академиях и семинариях из Прикамья обучалось 14 человек (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 19. Л. 7). Тем не менее многие из них или не смогли получить духовное образование, или стремились после выпуска распределиться в другие епархии.
16 февраля 1971г. еп.Иоасаф обратился к митр.Алексию (Ридигеру), председателю учебного комитета Русской Православной Церкви, с просьбой направить в Пермскую епархию выпускников духовных школ. «Пермская епархия испытывает недостаток в кадрах священнослужителей. В настоящее время требуются три священника в сельский и городские приходы и два диакона. Хотя на месте и есть кандидаты для рукоположения в священный сан, но уполномоченный часто препятствует их рукоположению. Прошу Вас, Высокопреосвященнейший Владыко, учесть наши нужды при распределении священнослужителей, оканчивающих духовные школы, и по возможности удовлетворить просьбу», писал еп. Иоасаф (АПЕУ. Ф. 1. Д. 4–21. Л. 82). Однако в ближайшие годы выпускники духовных учебных заведений в Пермскую епархию не приехали.
Несмотря на отсутствие выпускников семинарий еп. Иоасафу удавалось ежегодно рукополагать в священный сан 2–3 человека. Кандидатов, имеющих опыт служения в храме, выбирали по рекомендации местного духовенства. Для того чтобы подготовить будущего клирика к церковному служению, ему предписывали самостоятельно готовиться и сдавать ставленнический экзамен. Так, 2 апреля 1971 г. экзаменационная комиссия в составе трех священнослужителей кафедрального собора экзаменовала А. Кибардина. После испытания комиссия доложила, что ставленником освоены основы догматического и нравственного богословия, история христианской и Русской Православной Церкви, богослужебный устав и литургика. Комиссия также высказала свое пожелание ставленнику в дальнейшем продолжать свое образование, а если представится возможность — поступить на заочный сектор духовной семинарии (АПЕУ. Личное дело прот. А. Кибардина. Л. 7).
Для того чтобы получить разрешение уполномоченного на рукоположение, еп. Иоасаф был вынужден возводить в священный сан пожилых людей. Так, в 1971 г. были рукоположены А. Юшков и А. Сажин, оба 1908 г. рожд. Другим способом восполнить недостаток духовенства в епархии было приглашение священнослужителей из других регионов. Например, в 1971 г. в епархию приехал диак. С. Ведерников из г. Куйбышева, а в 1973 г. псаломщик М. Орос — с Украины (АПЕУ. Личные дела диакона А. Юшкова, прот. А. Сажина, прот. С. Ведерникова, прот. М. Ороса).
Однако и это не удовлетворяло полностью потребностей приходов, и общее количество священнослужителей в епархии уменьшалось. В 1966 г. в 41 приходе епархии общее количество духовенства составляло 58 священников и 12 диаконов. При этом в одном храме отсутствовал постоянный священник, в четырех храмах не было диаконов (АПЕУ. Ф. 1. Д. 3-09. Л. 7-9). В 1972 г. количество священников в епархии составляло 55, диаконов — 10. Священников не хватало в трех храмах, диаконов — в пяти. Причинами уменьшения количества духовенства были: уход за штат (на пенсию ежегодно уходило 2–4 священнослужителя), в другие епархии уезжали 1–2, уходили из жизни столько же (АПЕУ. Ф. 1. Д. 3–15. Л. 9–11).
Главной опасностью уменьшения количества духовенства была большая вероятность закрытия приходов. Если в храме в течение шести месяцев отсутствовал штатный священник, то приход мог быть закрыт местной властью. Однако существовала и другая причина закрытия храмов — их бедность. В данные годы большое количество крестьян переселялось в крупные города, поэтому многие деревенские приходы беднели и были вынуждены закрыться. В 1966 г. общее число приходов Московской Патриархии составляло 7523, а в 1971 г. их число уменьшилось до 7274 (см.: [Цыпин, 2006, 521]).
По воспоминаниям прот. Валентина Другова, еп. Иоасаф тайно помогал тем бедным приходам, которые из-за отсутствия средств не могли уплачивать необходимые взносы в государственные фонды. Священник Валентин служил в с. Васильевском и на свою маленькую зарплату не мог прокормить даже семью. Чтобы свести концы с концами, он подрабатывал в колхозе столяром. Когда о. Валентин приезжал в епархию, то секретарь еп. Иоасафа незаметно передавала ему деньги от владыки (см.: [Поминайте, 2019, 92]). В Пермской епархии в данные годы действительно существовал ряд приходов, доход которых был очень небольшим. Например, в 1972 г. в д. Ваньково годовой доход храма составлял всего 1111 руб., в д. Захарово — 1506 руб. В приходе с. Васильевское, о котором речь была выше, доход составлял 6477 руб., а зарплата священника — 1420 руб. в год (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 29. Л. 48-49). Данный доход был значительно ниже среднего уровня доходов приходов и духовенства в епархии. Благодаря усилиям еп. Иоасафа в Пермской епархии с 1966 по 1973 гг. не было закрыто ни одного храма.
Проявил себя еп. Иоасаф и в епархиальной строительно-хозяйственной деятельности. В 1968 г. в здании епархиального управления был произведен капитальный ремонт (АПЕУ. Ф.1. Д. 3-11. Л.2). Несомненно, для данной деятельности необходимы были материальные средства. Епископу Иоасафу за годы управления епархией удалось повысить общие доходы епархии. Так, в 1966 г. епархиальные доходы составили 1 645 616 руб., в 1967 г. — 1 813 141 руб. (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 19. Л. 32, 88), в 1973 г. — 2 232 634 руб. (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 29. Л. 139). Увеличение поступающих средств позволило улучшить материальное положение духовенства, сотрудников приходских храмов и осуществлять строительные проекты.
В 1969 г. в связи с капитальным строительством в Перми был снесен прежний архиерейский дом по Парковому пер., 4. Для постройки нового дома управлением епархии в микрорайоне «Южный» были приобретены два смежных земельных участка с надворными постройками общей стоимостью 10 тыс. руб. (АПЕУ. Ф. 1. Д. 2–11. Л. 124). По воспоминаниям современников, владыка Иоасаф лично руководил строительством, часто ходил на стройку, чтобы приободрить строителей. В 1972 г. строительство дома по адресу: Южно-Уральская ул., 12, было закончено и дом сдан в эксплуатацию. Две комнаты первого этажа распоряжением владыки были отведены под епархиальную гостиницу (см.: [Поминайте, 2019, 83]).
В архиерейском доме был устроен домовой крестовый храм, в котором постоянно совершались литургии. Обычно там собирались духовные чада владыки Иоасафа. Воспитанный в среде монашествующих и многие годы служивший в различных монастырях, владыка любил окружать себя глубоко верующими людьми. Некоторые из них приезжали к еп. Иоасафу за наставлениями даже из других регионов. Нескольких монахинь, оставшихся без монастырских келий, еп. Иоасаф поселил в архиерейском доме и дал им послушание в просфорне. Таким образом, архиерейский дом стал своего рода небольшим монастырем, в котором проживали и куда приезжали многочисленные верующие, искавшие в трудные советские годы духовных наставлений и утешений. После перевода в Ростов владыка продолжил пастырски окормлять своих духовных чад из Перми (см. подр.: [Иоасаф Овсянников, 2010, 203]).
Продолжая традиции своих предшественников, еп. Иоасаф уделял большое внимание красоте и торжественности храмового богослужения. В частности, он стремился улучшить качество церковного пения в епархии. 1 июня 1969 г., в праздник Святой Троицы, член общественной комиссии содействия по соблюдению законодательства о религиозных культах М. Г. Писманик, присутствовавший на богослужении в кафедральном соборе, в своем отчете записал: «В службе участвовал епископ Иоасаф. Встречали его не только торжественно (хор пел специальные песнопения при его встрече и одевании), но даже восторженно. Службу он вел старательно, но как-то вяло, временами запинаясь, словно неуверенно. Голос слабый, читает нечетко. Однако в целом служение получилось впечатляющим. Этому способствовало отличное хоровое пение (очень согласованное и с ходом службы и с пением на клиросе), умелое и с воодушевлением сослужение священников и диаконов и, особенно, праздничное настроение почти всех молящихся» (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 3. Д. 71. Л. 11). Необходимо отметить, что при управлении Пермской епархией еп. Иоасафом расходы на хоры значительно увеличились. Так, в кафедральном соборе расходы на хоры в 1966 г. составили 134613 руб., в 1967 г. — 144378 руб. (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп.2. Д.19. Л.86), в 1973 г. — 183 000 руб. (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 29. Л. 139).
Запомнились пермякам глубокие и проникновенные проповеди еп. Иоасафа. Игумения София (Комарова), вспоминая то время, говорила: «Владыка не был красноречив. Проповеди говорил очень короткие. А народу было в те годы в кафедральном соборе — яблоку негде упасть. И хочется подойти поближе послушать, но невозможно. Скажет, бывало: „Дорогие братья и сестры!“ Половина собора плачет. Еще скажет: „Любите друг друга“ — плачет уже почти весь собор, такая благодать исходила от него» [Поминайте, 2019, 76]. Настоятель храма Всех святых г. Кунгура прот. Борис Бартов также отмечал добрый характер проповедей архипастыря: «Владыка Иоасаф был очень простой. Он говорил: „Я вас всех полюбил“. И верующие люди нашего города тем же отвечали ему. Говорил очень простые, понятные всем проповеди.
Народ принимал его добрые слова с любовью… А за простоту и открытость Владыку называли — „Владыка Пермский — деревенский!“» [Иосиф Гачегов, 2002, 70].
Монашеская простота еп. Иоасафа проявлялась во всем его служении. Например, владыка ездил с архипастырскими визитами на отдаленные приходы епархии на обычной электричке. Протоиерей Иоанн Патласов так вспоминал приезды владыки: «Это был раб Божий. Он ко мне в Кизел приезжал два раза. На электричке вместе с иподьяконом и протодьяконом, потом с вокзала на такси и ко мне домой. Когда летом приезжал, так мы его угощали луком зеленым со сметаной, а еще владыка баньку очень любил, после всенощной сразу туда, отдохнет, а потом уже за стол садился. Иподьякон и протодьякон все на него ворчали: „Опять надолго“» (Патласов, 2021).
С особой любовью еп. Иоасафа вспоминали и верующие. Монахиня Серафима (Ежкова) говорила: «В общении Преосвященный Иоасаф был очень прост, нам близкий и родной! Мы к нему ходили в любое время. Он радушно принимал нас, усаживал за стол и сам угощал, всегда беседовал на духовные темы» [Иосиф Гачегов, 2002, 84].
Одной из сложных задач для еп. Иоасафа было наладить хорошие, деловые взаимоотношения с местным уполномоченным по делам религий. 7 ноября 1966 г., сразу после своего назначения, владыка Иоасаф направил поздравительную телеграмму в пермский областной исполнительный комитет уполномоченному по делам религий: «Глубокоуважаемые Александр Александрович и Петр Спиридонович с праздником сорок девятой годовщины великой октябрьской социалистической революции. От всей души желаю вам полных успехов в государственных делах ваших и всякого благополучия и счастья в личной жизни. Еще раз заверяю вас, что вся моя деятельность, которая начинается сейчас в Пермской епархии, будет направлена как на благо Русской Православной Церкви и верующего народа, так и на благо нашего великого отечества, интересы которых считаю неотделимыми друг от друга» (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 1. Д. 15. Л. 127).
Архимандрит Стефан (Сексяев), являвшийся ближайшим помощником еп. Иоасафа, вспоминал, что владыка старался поддерживать с уполномоченным хорошие отношения: «Владыка Иоасаф был человеком простым, благоговейным, молитвенником; к уполномоченному поедет, помолится, подумает сначала, святыньку с собой возьмет» (Стефан Сексяев, 2021). Стремление управляющего епархией поддерживать хорошие взаимоотношения с властью отмечал и уполномоченный. В своих отчетах чиновник неоднократно отмечал успехи Церкви в патриотической деятельности, увеличение с каждым годом епархиальных взносов в Фонд мира. Если в 1966 г. отчисления Пермской епархии составляли 20 тыс. руб. (АПЕУ. Ф. 1. Д. 3–09. Л. 2), то в 1972 г. составили уже 50 тыс. руб. (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 29. Л. 69).
Тем не менее в отношениях между еп. Иоасафом и уполномоченным возникали и противоречия. Обычно они были связаны с духовенством епархии. В 1967 г. из-за отказа по требованию советского чиновника перевести священника на другой приход уполномоченный дал следующую характеристику еп. Иоасафу: «Возможно такое поведение в известной мере не противоречит нашим интересам, но с другой стороны при таком киселеобразном понятии своей роли как правящего епископа вряд ли возможно провести в необходимых случаях твердую линию, будет ли это касаться административной или канонической стороны дела в одной церкви или в масштабе всей епархии» (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 20. Л. 1–2).
Чтобы спасти очередного священнослужителя от лишения регистрации или перевода, еп. Иоасафу приходилось прибегать к хитрости. Современники вспоминали, что когда уполномоченный выговаривал ему, что на какого-то священника пришло письмо с жалобой, владыка восклицал в возмущении и давал слово разобраться. Советский чиновник передавал провинившееся духовное лицо для наказания епархиальному архиерею. Но, прейдя к епископу, «виновный» слышал от него лишь мягкое пастырское внушение. Владыка по-отечески жалел нарушителя дисциплины и даже плакал. Нередко провинившийся священник, вразумившись, раскаивался и плакал вместе с ним (см. подр.: [Поминайте, 2019, 81]).
В 1970 г. уполномоченный выражал свое недовольство частыми поездками епископа для юридических консультаций в Московскую Патриархию и его требованиями увеличить количество изготовляемых в епархиальной мастерской свечей. В ежегодном отчете чиновник отметил, что у епископа наметилась «тенденция ухода из-под контроля». Уполномоченный сделал вывод, что этот сдвиг является результатом его общения в церковных кругах, которые заражены духом неповиновения условиям, установленным государственными органами (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 24. Л. 25).
Данные наблюдения уполномоченного получили свое подтверждение во время участия еп. Иоасафа в Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1971г. Подготовка и проведение Собора потребовали от Совета по делам религий много усилий. Во-первых, кандидатура митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена (Извекова) на пост главы Церкви на первых порах не встретила единодушного одобрения архиереев, многие из которых хотели избрать на этот пост митрополита Ленинградского Никодима (Ротова). Совету по делам религий через уполномоченных пришлось воздействовать на архиереев, чтобы они поддержали кандидатуру митр. Пимена на патриарший пост. Во-вторых, проведение Собора вызвало всплеск религиозного инакомыслия. Собор рассматривался как высший орган управления Церковью, способный исправить все наиболее значительные недостатки в церковной жизни. В адрес Собора было направлено несколько открытых писем. Одним из авторов такого послания был архиепископ Иркутский Вениамин (Новицкий). В своем письме он предложил отменить те решения Архиерейского Собора 1961 г., которые не разрешали священнослужителям заниматься хозяйственными делами прихода (см. об этом: [Шкаров-ский, 2010, 390]). В 1970 г. еп. Иоасаф во время отпуска специально ездил в Иркутск на встречу с архиеп. Вениамином, чтобы поддержать его предложение и поставить в документе свою подпись (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 20. Л. 16).
Безусловно, данное действие пермского епископа не осталось незамеченным властью. Тем не менее главным было убедить еп. Иоасафа поддержать кандидатуру митр. Пимена. Это потребовало от уполномоченного А. Сонько немало усилий.
-
10 декабря 1970 г. во время беседы с еп. Иоасафом на вопрос, кому он отдает предпочтение, он сказал: «Владыка Никодим мой духовник и вполне естественно, что я высказался бы за него, хотя против местоблюстителя не имею возражений, да и он ко мне относится неплохо» (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 20. Л. 15). Такая позиция не удовлетворяла уполномоченного, который продолжил склонять епископа к тому, чтобы голосовать за кандидатуру митр. Пимена. Лишь после пятой беседы ему это удалось: «епископ уже начал высказывать вполне определенное мнение в полном соответствии с рекомендацией Патриархии и в конце концов сказал, что единственным преемником на пост Патриарха является местоблюститель митрополит Пимен» (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 2. Д. 27. Л. 3).
-
29 апреля 1971 г. в помещении управления Пермской епархии состоялось совещание представителей духовенства и мирян Пермской епархии, на котором присутствовали 15 духовных лиц и 5 старост. Делегатами на Поместный Собор были выбраны управляющий Пермской епархией еп. Иоасаф, секретарь епархии прот. Иоанн Сек-сяев и староста кафедрального собора И. Ф. Байдаров. Также совещание составило в адрес Собора официальное письмо, в котором выразило общее мнение о поддержке кандидатуры митр. Пимена на пост патриарха (ГАПК. Ф. Р-1204. Оп. 3. Д. 70. Л. 11).
Несмотря на мягкий характер, сговорчивость и видимую лояльность советской власти, еп. Иоасаф тем не менее оказался в черном списке архиереев Русской Православной Церкви. В 1970-е гг. за рубежом был опубликован секретный документ: «Извлечения из отчета Совета по делам религий членам ЦК КПСС» за подписью заместителя председателя совета В. Г. Фурова. По степени лояльности советской власти В. Г. Фуров условно разделил архиереев на три группы. В третью, наиболее опасную, состоящую из 17 архиереев, которые, с точки зрения Совета по делам религий, пытались обойти законы о культах, были религиозно консервативны, способны на фальсификацию положения дел в епархии, попал и еп. Иоасаф, в 1974 г. уже служивший на Ростовской кафедре (см.: [Цыпин, 2006, 571]).
Итак, во 2-й пол. 1960-х — нач. 1970-х гг. советское государство продолжило свою антицерковную политику, направленную на существенные ограничения жизни Церкви в СССР. Русская Православная Церковь продолжала испытывать негативные последствия приходской реформы 1961 г. Из-за тотального государственного контроля за деятельностью религиозных организаций невозможно было выстроить эффективную епархиальную систему управления приходами. Тем не менее еп. Иоасафу (Овсянникову), служившему на пермской кафедре с 1966 по 1973 гг., удалось собрать команду единомышленников и организовать продуктивную работу епархиального управления и приходов епархии. Несмотря на отсутствие выпускников духовных учебных заведений, еп. Иоасаф решил проблему нехватки духовенства за счет рукоположения местных верующих прихожан, а также приглашения духовенства из других епархий. Благодаря этому, а также материальной поддержке бедных приходов в Пермской епархии в данный период не было закрыто ни одного приходского храма. При этом еп. Иоасаф активно занимался улучшением материальной базы епархии, повышением приходских доходов, в частности, под его руководством был построен новый епархиальный дом с гостиницей. В трудное время, когда власть осуществляла давление на Церковь, еп. Иоасафу удавалось поддерживать с уполномоченным по делам религий ровные и деловые отношения. Несомненно, что в этом епископу помогала его благочестивая жизнь, монашеская простота, пастырская мудрость и дух любви, который привлекал к нему пермскую паству.