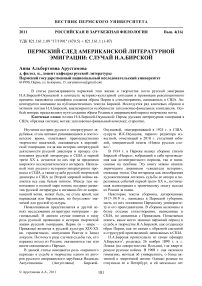Пермский след американской литературной эмиграции: случай Н.А. Бирской
Автор: Арустамова Анна Альбертовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается пермский этап жизни и творчества поэта русской эмиграции Н.А.Бирской-Окунцовой в контексте историко-культурной ситуации в провинции революционного времени; выявляется специфика создания образа Перми в стихотворениях, написанных в США. Акцентируется внимание на публицистических текстах Бирской. Исследуется ряд ключевых образов и мотивов поэзии Н.А.Бирской, анализируются особенности заголовочно-финальных комплексов. Особый интерес представляют пути создания образа Родины в американский период творчества поэта.
Поэзия н.а.бирской-окунцовой, пермь, русская литературная эмиграция в сша, образная система, мотив, заголовочно-финальный комплекс, стереотип
Короткий адрес: https://sciup.org/14729043
IDR: 14729043 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Пермский след американской литературной эмиграции: случай Н.А. Бирской
Изучение истории русского литературного за- Окунцовой, эмигрировавшей в 1924 г. в США, рубежья, столь активно развивающееся в постсоветское время, охватывает преимущественно творчество писателей, оказавшихся в европейской эмиграции, тогда как история литературной деятельности русской диаспоры и процесс становления русской литературы в США в первой трети XX в. остаются до сих пор за пределами широкого исследовательского интереса. Начальный этап русского историко-литературного процесса в США, а также судьба русской творческой диаспоры в США до Второй мировой войны являются все еще белым пятном. Между тем невозможно в полной мере понять историю развития русской литературы в изгнании без ее американской ветви, может быть, не столь яркой, как парижская или берлинская, но безусловно значимой для русской культуры.
Немаловажным представляется и другой аспект исследования литературы эмиграции – региональный. В данном случае имеется в виду роль русской провинции в истории творческой жизни русской эмиграции. Пермь (и – шире – Прикамье) является в русской культуре XIX-XX вв. «транзитным», связующим Восток и Запад локусом. Поэтому в ряде случаев судьбы тех, кто пережил исход из России, оказываются так или иначе связанными с Пермью.
В данной статье освещается роль «пермского периода» в судьбе и творчестве одного из авторов русского американского зарубежья Надежды Августиновны (Августовны) Бирской- супруги И.К.Окунцова, первого редактора известной, отметившей в 2010 г. столетний юбилей, эмигрантской газеты «Новое русское сло-во»1.
В 1934 г. в Париже вышел сборник стихов Бирской «Искры», вобравший в себя произведения как доэмигрантского периода, так и написанные на чужбине. Эту книгу можно назвать лирическим дневником «свидетеля истории», очевидца эпохи. Она интересна как своеобразная художественная летопись судьбы ее автора и переломных событий первой трети XX в., поэтическая иллюстрация к трагическому опыту исхода из России за океан.
Некоторые тексты сборника, датированные 1917-1919 гг., написаны в Пермской губернии, часть из них посвящена Пермскому университету и его преподавателям. В сборник включены и более позднее стихотворения, написанные в США, но связанные с Прикамьем. Попытаемся понять, какое место занимал пермский период в судьбе и творчестве Н.А.Бирской, как создавался образ Перми, как он связан с образной системой и структурой произведений, написанных в США.
Н.А.Бирская происходила из семьи офицера А.Бирского2, родилась 26 ноября 1890 г. в г. Ломжа (на северо-востоке Польши), где квартировали русские войска. В 1908 г. она окончила гимназию, мечтала об университете, о более активной и энергичной жизни. Однако родные не отпускали ее в Петербург, и ей несколько лет пришлось учиться в Варшавской консерватории. Только в конце 1913 г. Бирская отправилась в Петербург, где поступила в университет на физико-математический факультет. Начало Первой мировой войны сломало течение ее студенческой жизни, как и многих других молодых людей того времени. Став сестрой милосердия в Надеждинской общине Красного Креста, она не могла в полной мере уделять внимание занятиям в университете.
В Петербурге во время Первой мировой войны она служила сестрой милосердия, принимая таким образом участие в социальной жизни.
Потенциал своей личности в столице Бирская реализовывала разносторонне: начала печататься в петербургских изданиях (в частности, журнале «Жизнь для всех»), принимала участие в знаковых и ярких событиях того времени. Сохранилось письмо Бирской авиаконструктору И.И.Сикорскому, в котором упоминается ее полет на аэроплане «Илья Муромец»3. Думается, этот эпизод ярко раскрывает такие стороны ее характера, как готовность к поступку, к действию, решительность, бесстрашие, стремление к ярким впечатлениям, поскольку полеты на самолете в 1914 г. были далеки еще от массовых. Способность занимать активную позицию, сопротивляться обстоятельствам позволило Бирской выжить в постреволюционное время, а затем достичь берегов Атлантики.
Февральская революция заставила ее оставить Петербург. В апреле 1917 г. вместе с другими студентами петербургских вузов Бирская отправилась на восток, остановившись сначала на очень непродолжительное время в Вятке, а затем в Перми. Именно здесь ее настигли трагические события 1917-1918 гг., предопределившие исход за океан и нашедшие отражение в литературном творчестве. Пермский период жизни Надежды Бирской завершился драматично – вместе с преподавателями и студентами Пермского университета она выехала из Перми в Томск вслед за войсками Колчака, а позднее – через Семипалатинск, Москву, Барановичи, Польшу – ей удалось выбраться из страны, охваченной гражданской войной, и добраться в 1924 г. до Нью-Йорка.
В Перми Бирская стала студенткой медицинского, а затем историко-филологического факультета университета. Пермский период биографии Бирской ознаменован изменениями в личной жизни: она сменила фамилию, став женой В.И.Яркова, студента юридического факультета Пермского университета4. В 1919г. Ярковы эвакуировались вместе с отступающими колчаковскими войсками из Перми в Томск, поскольку в Сибирь эвакуировался и Пермский университет. Однако далее пути супругов драматически разошлись. Бирская последовала за Колчаком на восток, а Ярков вернулся в Пермь, уже занятую красными войсками. Сохранилось его заявление от 20 марта 1920 г. с просьбой о принятии в Пермский университет: «Ввиду упразднения юридического факультета прошу зачислить меня в студенты медицинского факультета. При этом довожу до сведения, что я был эвакуирован в Сибирь и возвратился в Пермь в марте с.г.» (Ярков: Л.1). Трагические события того времени разрушали судьбы и семьи, и, возможно, не случайно в ее воспоминаниях о пермском периоде жизни не встречается даже упоминания имени первого мужа, В.И.Яркова.
Пермский период в судьбе Бирской отмечен активной общественной деятельностью. Как сообщает сама Бирская в неопубликованных воспоминаниях «Моя тропа», в Перми она училась в университете, одновременно служила в земской управе, занималась литературой, сотрудничала в издаваемой эсерами газете «Народная воля»5. Бирская поступила на службу в Земскую управу инструктором по кооперации, читала лекции и организовывала общества потребительской кооперации. «Мне удалось вместе с беженцами и с воинскими частями и семьями офицеров из Петербурга в теплушке, в предлинном эшелоне перебраться в город Вятку, где я сотрудничала в газете «Вятская речь», оттуда пришлось бежать в город Пермь, в теплушке одного из вагонов товарного поезда, вместе со всеми беженцами из Росии… В городе Перми я поступила на службу в Губернскую Земскую управу в качестве губернского разъездного инструктора по потребительской кооперации» [Бирская-Окунцова 1970].
Чуть позже, в 1918 г., Бирская активно участвовала и в социально-политической деятельности: в качестве члена земской губернской управы «вела народ к ознакомлению с выборными законами, при голосовании за делегатов во Всеси-бирское Учредительное Собрание» объезжала уезды Пермской губернии. Активное участие она принимала и в работе Первого женского губернского съезда в 1917 г., на котором были зачитаны приветствия Брешко-Брешковской, Фигнер и были направлены адреса деятельницам русской революции. На этом съезде Бирская была избрана вице-председателем: вела съезд, активно работала с его делегатками6.
Общественная, социально-политическая деятельность, студенческий опыт нашли отражение в написанных ею поэтических текстах. Мы не обсуждаем их художественную ценность, они во многом вторичны, в них используются получив- шие массовое распространение образы русской поэтической классики; автор цитирует вошедшие в широкий культурный обиход тексты Тютчева, Лермонтова, Пушкина и др. Лиричское Я в стихотворениях Бирской максимально приближено к Я биографическому. Стихотворения написаны в русле русской элегической традиции XIX в. («Элегия»), пейзажной лирики («Весна»), социальной лирики второй половины XIX в. («Как можно обойти просящего калеку»). В стихах Бирской легко узнаваемы образы и мотивы русской поэзии XIX в. (ср. в «тютчевском» стихотворении «Душе моей» – «За что страдаем мы вдвоем? Ты – пленница безвольного ума, Вечно на поединке роковом Веленьем совести раздвоена…» [Бирская-Окунцова 1934: 49] или «пушкинское» название стихотворения, написанного уже в изгнании в Америке, – «Телега жизни»).
С одной стороны, стихотворения Бирской характеризуются наивным отражением увиденного (см. обсуждение проблем «наивной литературы» М.Л.Лурье, а также других авторов в статьях сборника «Наивная литература»: исследования и тексты (М., 2001) [Лурье 2001]). С другой стороны, автору свойственно обостренное переживание диссонанса красоты уральской земли и творимой на ее глазах истории – конфликта, который станет центральным и для творчества «свидетелей истории» (образ, введенный в русскую литературу М.Осоргиным, в эмиграции неоднократно обращавшимся памятью к прикамской земле): «В мире Природы жизнь – отрада, Простор безбрежный, тишина… В мире людей – хаос печальный. Гоненье, ненависть, вражда…» [там же: 41].
В текстах уральских стихотворений Бирской звучат мотивы живительной и обновляющей силы природы («Творцу», «Элегия»). Это изображение русского пейзажа: «Я так люблю здесь находиться Под сению густых ветвей Орешника… Хочу молиться Среди красот лесов, полей…» («Творцу»). Вместе с тем актуализируются социальные мотивы, интонация негодования, связанные с ощущением надвигающегося перелома. В одном из стихотворений («Что – жизнь?»), навеянном поездкой на Нижнетагильский завод, автор заостряет социальные противоречия, рисуя картины тяжелого труда, бедности («И холодно, и сыро в доме, И дети в рубищах, – одни… Чем виноваты эти люди, Что богачи им «не сродни»?!») [там же : 39].
Подчеркнем, что в стихах доэмигрантского периода важнейшее место занимают «географические» образы, поскольку 1917–1923 гг. – это годы скитаний, попыток спастись в революционном вихре. Петербург, Вятка, Пермь, ст. Тайга,
Красноярск, Томск, Семипалатинск, Москва, Ломжа — только некоторые точки на пути движения за океан. Автор стремится передать специфику географического пространства, особенности сибирского или киргизского пейзажей, иногда в редуцированном виде. Бирская создает образы пространства, по которому проходил ее путь из России в США, однако во многом это стереотипные, ожидаемые и легко узнаваемые образы. В ее сибирских текстах появятся «великий Енисей, Могучий, гордый и зеленый», «плоты», «мужики-сибиряки», образ удалой вольницы («гармошка, свист и громкий хохот» – «Енисей»). Приметы Семипалатинска – «светлый Иртыш», «карагат кудрявый», «пески сыпучие», безбрежный простор («Духовнику моему Ф.М.Достоевскому»), «лазурное дивное небо» («Феликсу Францевичу Иордан-Лобержинско-му»). Читатель Бирской следует тем же путем изгнания, что и автор, – от Урала до Америки.
Вместе с тем для стихотворений, написанных в Перми, значимы заостренно социальные мотивы, что, очевидно, связано с активной общественной деятельностью Бирской. Они продолжают звучать и в публицистических текстах публицистических жанров – приветственное слово, очерк, – организуя сюжетное напряжение в них: стремление к обновлению жизни сталкивается с острыми социальными противоречиями пред- и постреволюционного времени.
Так, в приветственном слове к Женскому съезду его автор призывает: «Великий момент настал для нас – мы получили равноправие, так сговоримся же здесь, чтобы это равноправие не осталось на бумаге… Дружными усилиями, терпением и трудом добьемся новой жизни» [Стенограмма 1917: 3].Те же мотивы звучат в очерке «Путевые заметки по Верхотурскому уезду». Изображение крестьянской жизни выполнено в традициях русского реалистического очерка XIX в.: «Далее еду по селам и поселкам переселенцев из витебской, минской и других губерний. Повсюду беднота, беспросветная темь и убожество. Дети лет 6-8 почти голые, в еле-еле прикрывающих тело рваных рубищах, в худых лаптях, с посиневшими, замерзшими рученьками. Съежившись, сидят у ворот или толкают друг друга в кучи снега» [Яркова 1917: 2]. «Путевые заметки» Бирской, увидевшие свет в газете социал-революционеров, пронизаны острой социально-политической полемикой с большевиками. С одной стороны, и в стихотворениях, и в публицистике автор негодует, поднимая тему нищеты и тягот трудовой жизни русского народа, жаждет изменений, с другой – резко отрицает «большевистскую» пропаганду7.
Однако социальному диссонансу противостоит радость познания и духовной, интеллектуальной деятельности, пробуждающей и освещающей душу лирической героини. Наиболее ярко это выражено в стихотворениях, посвященных Пермскому университету. Заметим, что в пермских стихотворениях Бирской читатель не найдет примет самого города, указаний на его ключевые локусы. Для автора Пермь – это прежде всего духовное и социальное пространство. И организовано духовное пространство прежде всего университетом.
Так, одно из стихотворений обращено к профессору Ю.Верховскому, работавшему в Пермском университете. Оно имеет заголовок «Вдохновенье (Посвящаю Историку Русской Литературы, моему учителю, Профессору В.Верхов-скому8)» и завершается указанием на место, время и обстоятельства написания: «1918-1919 учебный год. Пермь. Историко-филологический факультет» [Бирская-Окунцова 1934: 45]. Уже в заглавии упомянуто «учительное» слово поэта. Профессор-поэт предстает в ипостаси учителя жизни. По мере движения лирического сюжета Поэт обретает черты пророка, характерные для романтической лирики: «Твой звучный голос властно Вливает в души свет...» [там же]. Возникает аллюзия на пушкинского «Пророка». Таким образом, финал сихотворения перекликается с заголовком, возникает единое смысловое поле.
В стихотворениях Бирской вообще существенное значение имеют заголовочно-финальные комплексы. Зачастую они превращаются в развернутые ремарки, обрамляющие поэтические строфы. Тем самым происходит проникновение эпического начала в лирический текст, расширение его пространства, дополнительное «психологическое» насыщение поэтического текста. Так, в стихотворении «К отчизне (9-11 декабря 1921 года)» подзаголовок включает дату пересечения русской границы, а финальные строки указывают на место написания и, являясь повествовательными, характеризуют душевное состояние героини, переключают текст в иной регистр: «На польской границе. Между станциями «Погоре-лое-Столбцы. В беженских бараках, в слезах...» [там же: 59]. В пространстве одного текста конструируется обобщенный образ России («Россия незабвенная, Страна многоликая, – Родина самоцветная, Богобоязная, великая... Волей непреклонная, Духом самобытная, – Миссией — распятая, Матерь всеединая...») и передается исповедальное переживание, выраженное в финальных строках, что создает интонацию плача по навсегда покидаемой России.
В целом ряде стихотворений заглавие является одновременно и посвящением. Оно выполняет функцию экспозиции, представления адресата текста и функцию просвещения читателей с разным культурным опытом (например, «Феликсу Францевичу Иордан-Лобержинскому (польскому беллетристу, художнику и редактору журнала “Искусство и жизнь”)» [там же: 67] или «В.А.Поссе (Редактору журнала “Жизнь для всех” в С-Петербурге)» [там же: 70]). Показательно, что посвящения адресатам – русским эмигрантам, как например, музыканту М.Д.Агреневой-Славянской9, писателю Г.Д.Гре-бенщикову, не содержат уточнений, вынесенных в заголовочный комплекс. Таким образом, в большинстве своем детализация касается событий русской, доэмигрантской, жизни и персон, связанных с доэмигрантском периодом жизни автора. Эти посвящения рассчитаны уже на русского читателя в эмиграции и представляют собой попытку препятствовать размыванию культурной памяти, связанной с утратой родины.
В стихотворениях Бирской заглавие может также задавать угол зрения, необходимый для правильного понимания текста, «уточнять» авторскую позицию, указывать на характер «отношений» между автором и адресатом («Духовнику моему Ф.М.Достоевскому (к 100й годовщине со дня его рождения» [там же: 57], «Светлой памяти А.С.Пушкина (к 130-ой годовщине со дня его рождения» и др.).
В наступившей сумятице российской жизни Пермский университет оставался в биографии и стихах Бирской светлым началом, с одной стороны, связывающим с прежней, уходящей навсегда жизнью, а с другой – позволяющим противостоять «судьбы бездушным приговорам» [там же: 48]. В 1919 г. университет эвакуируется вместе с войсками Колчака в Томск. Даже в очень тяжелых условиях эвакуации в Томске, как пишет в воспоминаниях Бирская, студенты находили возможность надеяться: «Настало лето. В городе Томске, на реки Томи, студенты Императорского университета… как-то обжились… завели знакомства со студентами Политехнического института… Молодежь во всяких условиях и обстоятельствах умеет приспосабливаться и находить пути радостной жизни» [Бирская-Окунцова 1970].
Мотив надежды является ключевым в стихотворении, посвященном этому периоду студенческой жизни: «Семья жрецов в худой одежде Науке гимн с тоской поет, Озарена одно надеждой, Что на Руси заря взойдет...» («Студенческое общежитие» [Бирская-Окунцова 1934: 47]). Позже, в конце 1920-х гг., будучи в США, Бирская напишет еще одно стихотворение, в котором вернется к университетским дням своей жизни: ретроспективно зазвучат те же мотивы молодости, надежды на светлую судьбу, несмотря на вихрь революции и гражданской войны. Упомянет в нем автор А.П.Сырцова, Л.А.Булаховского, Ю.Н.Верховского и других уехавших в Томск преподавателей Пермского университета, пытавшихся наладить там студенческую жизнь и образовательный процесс.
Встреча с преподавателями студентов из Перми и явилась сюжетной ситуацией в тексте Бирской «Alma Mater». Однако в тексте отчетливо звучит центральная для стихов американского периода оппозиция: тогда и сейчас . «С тех пор так много лет прошло, Ведь целых десять лет… Кто знает? Может быть, давно В живых уж многих нет?..» [там же: 82]. Пермские события оказываются своего рода катализатором размышлений о прошлом и настоящем, толчком, запускающим механизмы памяти поэта.
Воспоминания о Перми нашли отражение и в написанном уже в США стихотворении, посвященном Первому женскому съезду. Это стихотворение имеет посвящение «На 10летие Первого Губернского Крестьянского Женского съезда в России, в гор. Перми, в Женском Епархиальном Училище 23-25 октября 1927 г.». Однако озаглавлено оно «Америка». Чем обусловлено столь сильное смысловое различие текста и посвящения? Стихотворение состоит из пяти строф и построено как ряд определений концепта «Америка»: «Америка! Страна технических чудес, Мир конкурсных идей и фокусных стремлений, Строительница мертвых башен до небес. Страна, где нищенствует неизвестный гений» [Бирская-Окунцова 1934: 76]. Далее следует ряд определений, которые повторяют ключевые мотивы произведений, в которых звучит тема эмиграции. США – это страна эмигрантов, новый Вавилон, в котором нет места культуре. Как и во многих текстах XIX–XX вв., в которых создан образ Нью-Йорка, Бирская вводит два образа-символа: Остров Слез и статуя Свободы.
Для понимания смыслового напряжения между посвящением и текстом следует иметь в виду кольцевой характер композиции. Во второй строфе возникает мотив глухоты американцев к культуре («Культуре», как пишет Бирская), именно об этом же и последняя строка: «Страна – свидетельница бедствий миров потонувших, Где всем живет народ, но не читает книг!..» [там же]. Посвящение же, помещенное после основного текста, имплицитно противопоставляет Америке Россию, ориентированную на духовное, а не материальное. Подобно многим другим эмигрантам, Бирская критически относится к земле изгнания, которая отнюдь не стала землей обетованной, резко противопоставляет утраченную родину новому миру, в котором оказалась (о специфике выражения эмигрантского опыта в литературе XIX – начала XX в. см., например: [Арустамова 2008; Лыткина: 2008]).
Отзвуки воспоминаний о пермском периоде обнаруживаются и в «юбилейном» стихотворении «Екатерине Константиновне Брешко-Брешковской (Бабушке Русской Революции). К 85-летию со дня ее рождения», написанном в Чикаго в 1929 г.: «Когда в России дело было, Съезд Первый Женский собрался, Ты этот съезд благословила, Он именем моим велся. Я шлю горячее спасибо От дочерей твоих, внучат И припадаю торопливо к руке твоей — Сестра и Мать» [там же: 83]. Здесь вновь звучит характерный для стихотворений Бирской мотив слиянно-сти индивидуальной судьбы и судьбы родины. Именно он будет определять ее эмигрантское творчество в 1920 – началe 1930-х гг.: «Нет, я не в силах воспевать Поверхности земной пышный наряд! Ни облака, ни звезды, ни покой, – Пока в мученьях корчится мой край родной!..» («На чужбине» – [там же: 63]). Как заметил М.Раев, русские эмигранты постреволюционного времени считали себя изгнанниками, «надеясь, что их пребывание вне России временно, что вскоре, после падения советского правительства... они смогут вернуться назад...» [Раев 1994: 14].
В случае Бирской образы, навеянные Прикамьем, становятся слагаемыми образа утраченной родины, средством реконструкции прошлого и одновременно точкой отсчета для характеристики настоящего и самоидентификации в чужом мире, который обживался болезненно и мучительно.
Список литературы Пермский след американской литературной эмиграции: случай Н.А. Бирской
- Арустамова А.А. Русско-американский диалог XIX в.: историко-литературный аспект/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. 590 с.
- Бирская-Окунцова Н.А. Искры. Париж, 1934. 105 с.
- Бирская-Окунцова Н.А. На волнах истории. 1890-1970//Архив Н.А.Бирской-Окунцовой. Музей русской культуры (Сан-Франциско).
- Бирская-Окунцова Н.А. Письмо И.И.Сикорскому от 30 октября 1968 г.//ОР РНБ. Ф.1395. Сикорский Игорь Иванович. Ед. хр. 4. Л.1.
- Лурье М.Л. О феномене наивного сочинительства//«Наивная литература»: исследования и тексты/cост. С.Ю.Неклюдов. М., 2001. С.15-27.
- Лыткина О.И. «Американский текст» в русской языковой картине мира//Учен. зап. РГСУ. 2008. №4. С.244-249.
- Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. Буэнос-Айрес: Сеятель, 1967. 486 с.
- Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919-1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. 296 с.
- Стенограмма Пермского губернского женского крестьянского съезда//Народная воля. 1917. 24 окт. (№ 43). С.3.
- Яркова Н. Путевые заметки по Верхотурскому уезду//Народная воля. 1917. 18 нояб. №63. С.2.
- Ярков В.И. Личное дело//ГАПО. Ф.180. Оп.7. Д.530. Л.3.