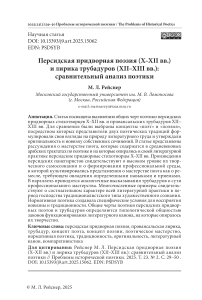Персидская придворная поэзия (X–XII вв.) и лирика трубадуров (XII–XIII вв.): сравнительный анализ поэтики
Автор: Рейснер М.Л.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению общих черт поэтики персидских придворных стихотворцев X–XII вв. и провансальских трубадуров XII–XIII вв. Для сравнения были выбраны концепты «поэт» и «поэзия», посредством которых представители двух поэтических традиций формулировали свои взгляды на природу литературного труда и утверждали оригинальность и новизну собственных сочинений. В статье представлены рассуждения о мастерстве поэта, которые содержатся в средневековых арабских трактатах по поэтике и на которые опирались в своей литературной практике персидские придворные стихотворцы X–XII вв. Произведения персидских панегиристов свидетельствуют о высоком уровне их творческого самосознания и о формировании профессиональной среды, в которой культивировались представления о мастерстве поэта как о ремесле, требующем овладения определенными навыками и приемами. В параллель приводятся аналогичные высказывания трубадуров о сути профессионального мастерства. Многочисленные примеры свидетельствуют о состязательном характере всей литературной практики в период господства традиционалистского типа художественного сознания. Нормативная поэтика создавала специфические условия для восприятия новизны и традиционности. Общие черты поэтики персидских придворных поэтов и трубадуров определяются типологической общностью законов функционирования литературного канона, на которые опиралось их творчество.
Персидская придворная поэзия, провансальская лирика, трубадур, концепт поэта, концепт поэзии, поэтическое мастерство, нормативная поэтика, традиционность, оригинальность, литературный канон, компаративистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147248208
IDR: 147248208 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15062
Текст научной статьи Персидская придворная поэзия (X–XII вв.) и лирика трубадуров (XII–XIII вв.): сравнительный анализ поэтики
П риступая к работе над настоящей статьей, ее автор провел небольшой статистический анализ. Он касался того, как в ряде профильных отечественных журналов по филологическим наукам представлены исследования по сравнительному литературоведению за последние пять лет. Статистический результат не может не вызывать сожаление. Это положение вещей идет вразрез со всей традицией отечественного литературоведения, в котором компаративистика занимала твердые позиции и имела впечатляющие достижения. О возможностях и перспективах сформировавшихся направлений компаративных исследований свидетельствуют классические труды А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, Н. И. Конрада. Эту традицию продолжили и ученые следующих поколений — Е. М. Мелетинский, П. А. Гринцер, Б. Л. Рифтин, А. Б. Куделин, В. И. Брагинский1 и мн. др.
В период 70–90-х гг. XX в. в советской и российской науке был создан внушительный задел для продолжения и расширения сравнительных и сравнительно-типологических исследований с привлечением материала не только русской и западноевропейских, но и восточных литератур. В ряду важнейших теоретических работ следует упомянуть коллективные труды Института мировой литературы им. А. М. Горького, в частности, «Типология и взаимосвязи средневековых литератур» (1974), «Взаимодействие культур и литератур Востока и Запада» (1992), «Историческая поэтика. Эпохи и типы художественного со-знания»2. Все эти труды были созданы совместными усилиями специалистов по западноевропейским и восточным литературам. Работа в обозначенном направлении продолжается в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН, о чем свидетельствует недавно опубликованная коллективная монография «Встреча Востока и Запада. Взаимодействие литератур и т радиций» [Встреча Востока и Запада].
Имеющийся фундамент создает достаточно прочную основу для плодотворного продолжения компаративных штудий, как в истории конкретных литератур, так и в теории литературного процесса.
Репрезентация концептов «поэт» и «поэзия» в произведениях, созданных по законам нормативной поэтики, вырабатывала критерии эстетического восприятия художественного текста, которые на ранних этапах развития литературоведения в рамках медиевистики воспринимались как полное отсутствие оригинальности. Сложившиеся в науке стереотипы преодолевались поэтапно в течение длительного периода, и результатом этого преодоления стало достаточно четкое представление о природе индивидуального авторства в классических средневековых литературах. Освоение и осмысление художественных произведений и литературно-теоретических текстов, принадлежащих восточным и западным традициям, создало достаточные предпосылки для их сопоставительного анализа.
Первые поколения западноевропейских исследователей средневековой поэзии Запада и Востока предъявляли к произведениям провансальских трубадуров и персидских придворных поэтов X–XII вв. сходные претензии, объявляя их поэзию монотонной, шаблонной, практически лишенной индивидуальной выразительности. М. Б. Мейлах, автор монографии «Язык трубадуров» (1975), так характеризует мнение Фридриха Дица (F. Diez): «Знаменитая фраза Фридриха Дица, утверждающая, что всю провансальскую литературу можно принять за труд одного поэта, продолжала до недавних дней оставаться аксиомой, переходящей из одной книги по прован-салистике в другую, так что скорее их можно в этом смысле принять за труд одного ученого» [Мейлах: 74].
А. Б. Куделин, посвятивший свои основные труды изучению средневековой арабской поэзии и поэтики, в ряде работ ссылается на эту фразу Ф. Дица как на одно из самых ярких свидетельств непонимания эстетических основ нормативной поэтики, характерное для литературоведения конца XIX — первой половины XX в. [Куделин, 2003: 87]. Ученый приводит ряд аналогичных высказываний, принадлежащих И. Ю. Крачковскому и его коллегам Р. Блашеру (R. Blachère) и А. Пересу (A. Pérès) [Куделин, 2003: 88–89]. Подобно Ф. Дицу, они не видели каких-либо проявлений авторской индивидуальности в средневековой арабской поэзии и принижали ее эстетическую значимость. Р. Блашер характеризовал творчество поэта аль-Мутанабби как «танец в кандалах» [Куделин, 2003: 86].
Сходную позицию декларирует в одной из своих работ Е. Э. Бертельс, весьма скептически оценивавший художественные достоинства придворных панегирических касыд3, сложенных на персидском языке: «Вряд ли в наши дни можно найти человека, который получает эстетическое наслаждение от чтения ближневосточных касыд (если, конечно, это панегирические касыды, а не касыды философского характера, появившиеся уже к концу XI в.). Монотонность, пустота, вычурность и лживость этих произведений делает чтение их для нас не удовольствием, а тяжелой работой. Касыды — ценнейший исторический источник; они могут принести пользу при изучении языка, но художественны в них в лучшем случае лишь отдельные бейты» [Бертельс: 316–317]. Между тем эти слова предваряют подробный филологический анализ произведений одного из блестящих придворных поэтов XI в. ‘Унсури Балхи, демонстрирующий широту диапазона вариативных возможностей средневекового панегирика.
Лишь со второй половины ХХ в., когда отношение к Средневековью как к исторической и литературной эпохе начало постепенно меняться, в науке оформилось целостное направление медиевистики, ориентированное на серьезное и углубленное изучение категорий средневековой культуры [Гуревич], законов средневековой поэтики [Zumthor]. По мере введения в научный оборот трактатов по поэтике, принадлежавших разным периодам и традициям, сформировались и адекватные теоретические подходы к художественным и литературнотеоретическим текстам ранних эпох [Брагинский], [Куделин, 1994], [Гринцер].
Литературная практика и нормативная поэтика
Сравнение мотивов авторского самосознания в поэтическом творчестве персидских придворных панегиристов X– XII вв. и провансальских трубадуров XII–XIII вв. дает основания утверждать, что они базировались на сходных принципах. В частности, это касается восприятия природы литературного труда и представлений об оригинальности и новизне собственных сочинений. Данное сходство проявляется не только в соревновательном характере всей поэтической практики и способах общения поэтов внутри литературных сообществ, но и в специфике слагаемых эстетического впечатления, в принципиальной нерасчлененности категорий новизны и традиционности. При сравнении столь разных по генезису и географическому ареалу распространения литературных явлений нельзя, разумеется, не учитывать их своеобразия. Тем более впечатляюще выглядят схождения в словесном выражении этих принципов в поэтических текстах персидских придворных стихотворцев X–XII вв. и провансальских трубадуров немного более позднего, но все же хронологически близкого времени.
В 1975 г. вышла в свет монография М. Б. Мейлаха «Язык трубадуров» (см.: [Мейлах: 72–130]), в которой автор опирался на достижения современной медиевистики [Гуревич]. С опорой на результаты отмеченных работ, а также с использованием метода сравнительного анализа нами был выявлен блок мотивов «служения и договора», обнаруженных в образцах персидской придворной панегирической касыды XІ–XII вв. [Рейснер, 1999].
Отмеченные М. Б. Мейлахом особенности стихотворной практики трубадуров (эксперименты в области звуковой и смысловой организации стиха, словотворчество, игра формами слова и т. д.) свидетельствуют о высокой степени их творческой осознанности. Строгий стилистический отбор лексики, искусное варьирование устойчивых поэтических формул, заимствования и отклики на стихи друг друга, а также острая литературная полемика и конкуренция в среде трубадуров указывают на то, что провансальская лирика сложилась как полноценный комплекс творчества канонического типа. М. Б. Мейлах писал: «Самое развитие литературного языка трубадуров, за короткое время достигшего высокого уровня артистизма, происходит, как уже говорилось, за счет исключительно литературных факторов и объясняется высоким престижем поэзии трубадуров с их постоянно совершенствующимся мастерством. Литературная жизнь трубадуров определяется <…> их высоким профессионализмом и поэтическим самосознанием, проявляющимся в стремлении к совершенству формы, их литературной культурой, допускающей свободное пользование аллюзиями и реминисценциями из других авторов, понятными аудитории, и такими приемами, как подражание, пародия и сатира, наконец, самим характером единой школы, который носит в целом провансальская лирика» [Мейлах: 86].
Свои наблюдения ученый подкреплял в том числе и ссылками на исследовательский опыт коллег-востоковедов, в частности, на вступительную статью к коллективному труду «Типология и взаимосвязи средневековых литератур» китаиста Б. Л. Рифтина [Рифтин] и статью индолога С. Д. Серебряного [Типология и взаимосвязи: 441–476]4, которые содержат обоснование типологически «единого метода средневековых литератур Запада и Востока» [Мейлах: 73, 153].
Особенности поэтики трубадуров и их отношения к литературному труду имеют близкие параллели в арабской и персидской поэзии, созданной в период X–XII вв. Представления средневековых персидских стихотворцев о своем профессиональном труде применительно к исфаханской школе поэтов XII — начала XIII в. изучала З. Н. Ворожейкина [Во-рожейкина: 97–114]. Обращалась к этой теме и автор настоящего исследования в рамках изучения генезиса и эволюции персидской газели и касыды [Рейснер, 1986; 2006: 66–93]. Суще ственным под спорьем в разработке темы явились изданные
-
Н. Ю. Чалисовой комментированные переводы на русский язык двух наиболее авторитетных трактатов по персоязычной классической поэтике (см.: [Ватват Рашид ад-Дин], [Шамс адДин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази]).
Сравнение мотивов авторской рефлексии, сложившихся в персидской придворной поэзии и лирике провансальских трубадуров, дает возможность судить о сходстве отношений средневековых поэтов разных языковых и культурных ареалов к литературному труду. Выявленные в ходе исследования блоки мотивов позволяют говорить о профессионализации литературного труда средневековых авторов, об осознании своего творчества как ремесла, материалом для которого служит слово.
Мастерство поэта как овладение ремеслом
По наблюдениям П. А. Гринцера, представление о поэтическом мастерстве как особом виде ремесла начало формироваться еще в эпоху Древнего мира. На это, к примеру, указывают глаголы, употреблявшиеся для выражения значения «слагать стихи», — индоевропейский глагол «тесать, обтесывать» встречается по отношению к слову в священных книгах Древнего мира «Авесте» и «Ведах», в Древней Греции поэты используют в этом значении глаголы «плести», «ткать» [Гринцер: 15–16]. Происхождение этой терминологии применительно к мастерству поэта, таким образом, имеет почти такие же древние корни, как и объяснение, что поэтический талант — это дар, ниспосланный свыше (инспирация). Вот что по этому поводу писал П. А. Гринцер: «Ремесленная терминология в зрелой поэзии и поэтике обычно связана с формальной стороной стиха, осознанием и подчеркиванием необходимости его искусной (ремесленной) обработки и выделки. Но изначально в архаике она, по-видимому, не столько "технологична", сколь "мифологична", переносит на поэзию кардинальные космологические представления, соотносит творение поэтического слова с процессом творения в принципе и прежде всего с творением мира» [Гринцер: 17].
Следует учитывать, что архаический, «мифологический» слой представлений о мастерстве слова полностью из самосознания литературной традиции не вымывается, о чем имеются достаточно внятные свидетельства в самой поэзии разных средневековых традиций. Обе концепции происхождения поэтического дара (инспирация и умение), сформировавшиеся в эпоху Древнего мира, в средневековой литературе сохраняются и актуализуются в зависимости от авторского понимания цели и назначения своего творчества. В рамках данного исследования нас интересует в первую очередь именно восприятие поэтом себя как мастера, профессионала.
Исследователями отмечено, что восходящее к стадиально более ранним эпохам сравнение поэта с ткачом на протяжении всего длительного периода существования традиционной литературы встречается в китайской, арабской, персидской поэзии. В персидской классической поэзии также сохраняются случаи уподобления работы со словом — труду плотника, восходящие к доисламскому периоду. Помимо этого, встречаются сравнения поэта с ювелиром, красильщиком, а также с маш-шата 5 — женщиной, профессионально украшавшей невест перед свадьбой.
По отношению к трубадурам оценку их мастерства как определенного ремесла можно найти в «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265–1321). Встреченный автором в чистилище поэт Гвидо Гвиницелли (ок. 1230–1276) называет пребывающего вместе с ним трубадура Арнаута Даниэля (ок. 1150 — ок. 1210) «лучшим кузнецом родного языка» [Мейлах: 36–37]. Характеристика поэтического труда как кузнечного дела и полировки встречается у великого Низами (ок. 1141 — ок. 1209) в одной из глав интродукции поэмы «Хосров и Ширин»: «Сначала покажи кузнечное искусство при [изготовлении] клинка, / А уж потом применяй шлифовку» (пер. М. Л. Рейснер, Н. Ю. Чалисовой) [Рейснер, Чалисова: 230]. Очевидно, поэт имеет в виду, что сначала должна быть «выкована» сама сюжетная основа истории, а потом уже к ней подобраны подобающие виды украшения (виртуозные описания, соответствующие фигуры и тропы). В другой главе того же тематического блока, посвященного созданию поэмы, Низами вкладывает в уста заказчика и адресата поэмы такие слова: «Тебе — вставлять бирюзу в перстень, / Нам — снимать печати с [сокровищницы] Сулаймана» [Рейснер, Чалисова: 224]. Здесь автор применяет сравнение поэта с ювелиром, оправляющим самоцвет в драгоценный металл. Смысл стиха таков: поэту должно слагать прекрасные стихи, а заказчику за них его награждать.
Культивирование языка поэзии в литературных традициях эпохи Средневековья как на Западе, так и на Востоке, связывалось с профессиональным мастерством, которое представлялось как сумма навыков и приемов и описывалось в терминах различных ремесел. В арабской классической литературе на это указывает название трактата «Книга двух ремесел» (Китаб ас-сан‘атайн) аль-Аскари (ум. 1010) [Куделин, 1983: 29], посвященного способам фигуративного украшения поэтической и прозаической речи. Сам термин сан‘ат, понимаемый как «прием», произведен от арабского трехбуквенного корня, глагольная форма которого соответствует значению «изготовлять, производить, выделывать», а также «украшать» и в своем изначальном словарном значении относится к любому ремеслу. Тот же аль-Аскари являлся составителем сочинения «Диван ал-ма‘ни» («Каталог ма‘ни»). Трактат относится к жанру средневековых филологических трудов, в которые включались лучшие с точки зрения составителя образцы авторской «обработки» мотивов. Примеры, сгруппированные по жанрово-тематическим рубрикам (см.: [Куделин, 1983: 72–99]), служили демонстрацией возможностей и способов варьирования и трансформации традиционных схем и клише. Это и есть один из видов «учебного пособия» для поэтов по овладению профессиональным мастерством. Напомним, что с точки зрения средневековой арабской поэтики одним из важнейших навыков поэта было подбирать каждый раз новые словесные облачения (лафз) для известных в традиции и устойчивых поэтических мотивов (ма‘ни) каждого тематического поля. В теоретических трактатах смыслы-ма‘ни сравнивались с красивыми девушками, которым надо подобрать уборы-лафз, которые сделают их еще прекраснее [Куделин, 1994: 253]. Именно с этой метафорой связано устойчивое сравнение поэта с машшата, ремеслом которой было украшать девушку к свадьбе. Саму поэзию в персидской стихотворной традиции часто сравнивали с невестой.
Трубадуры характеризуют свое поэтическое мастерство в том же семантическом ключе «ремесел»: слова и песни они золотят (daurar), полируют (dolar), обтесывают и куют (obrar), обтачивают напильником (limar, passer la lima), раскрашивают [Мейлах: 83]. Практически точные аналоги этим характеристикам поэтического труда можно найти в персидской поэзии классического периода. Придворная служба поэтов, которая с Х в. в ареале распространения новоперсидского языка приобрела государственный статус, послужила фактором, сформировавшим четкое представление о работе со словом как об особом ремесле или искусстве. Эти представления были закреплены и в самой поэзии, и в литературной теории и критике. В частности, средневековый арабский филолог Ибн Табатаба (ум. 933/934), рассуждая о недопустимости прямого плагиата и условиях совершения похвального заимствования ( сарика ), утверждает следующее: «И будет это подобно тому, как ювелир расплавляет ранее отлитые золотые и серебряные изделия и заново отливает их лучше, чем прежде, и подобно тому, как красильщик окрашивает одежду в тот из красивых цветов, какой пожелает» (пер. А. Б. Куделина, здесь и далее выделено нами. — М. Р. ) [Куделин, 1983: 105].
Мотив обтачивания напильником в описании сочинения стихов встречается в одной из двух дошедших до нас касыд признанного основоположника поэзии на классическом персидском языке Рудаки Самарканди (860–941). Во фрагменте самовосхваления, включенном в состав панегирика, есть такие слова: «…если ты возьмешься говорить со всем старанием, / И если отточишь свой разум напильником…» (пер. М. Л. Рейснер, Н. Ю. Чалисовой) [Рейснер, Чалисова: 163]. В детализированном виде мотивы мастерства поэта как труда ремесленника (ткача и рисовальщика, расписывающего ткани) предстают в касыде одного из выдающихся придворных поэтов газне-видской школы6 Фаррухи Систани (ум. 1037/1038). Вступительная часть одной из его панегирических касыд целиком посвящена искусству слова, и начинается она такими стихами:
«С караваном одежды отправился я из Систана 7 ,
С одеждой, сплетенной из сердца , сотканной из души.
С одеждой, у которой шелк по составу — слово , С одеждой, рисунок на которую [наносит] язык.
Каждая нить основы в ней с трудом извлечена из сердца, Каждая нить уткá в ней с усилием вырвана из души.
Эта одежда соткана не так, как другие одежды, Не суди об этой одежде по другим одеждам.
Природа ее — язык, мудрость сучила нить , а разум ткал , Рисовальщиком была рука, а от сердца в ней — изъяснение» [Рейснер, Чалисова: 168].
В классической персидской поэзии, созданной по законам нормативной поэтики, зона проявления авторской индивидуальности была сопряжена с принципами переработки заимствуемых у предшественников устойчивых компонентов поэтического смысла ( ма‘ни ) и его словесного выражения ( лафз ). Необходимость авторской трансформации, таким образом, относилась и к содержанию, и к форме. Трансформация, которой подвергались эти уже прошедшие неоднократную обработку смысловые и формальные структуры, как раз и ассоциировалась с работой ремесленника (плотника, ткача, ювелира, красильщика, костюмера и т. д.).
В параллель высказываниям персидских поэтов X–XI вв. можно привести слова из популярной песни трубадура Арнаута Даниэля (ок. 1145–1150 — ок. 1200–1210) в переводе М. Б. Мейла-ха: «На эту музыку, приятную и веселую / я кладу слова, подстругивая их и подскабливая, / чтобы они стали верными и точ ными, / когда я пройдусь по ним подпилком, / и Амор тут же полирует и золотит / мое пение, вдохновленное той, / которая поддерживает и направляет Честь» [Мейлах: 120].
В рамках правил нормативной поэтики вновь созданные стихи находились в той же сфере канона, что и стихи предшественника, но одновременно состояли с ними в отношениях диалога и состязания. Интертекстуальность средневековой поэзии, повторяемость образов и мотивов и создает у современного наблюдателя превратное представление о ее однообразии и монотонности. Только знание основ функционирования нормативной поэтики дает возможность адекватного понимания природы эстетического впечатления в этой системе творческих координат. Авторское преобразование традиционного мотива, осуществляемое с помощью определенных приемов, которым он должен быть обучен, составляло важнейшую часть комплекса критериев совершенства стиха. Каждый поэт, будь то трубадур или персидский придворный панегирист, стремится быть лучше других, превзойти своего соперника. В условиях «снятия временных изменений» на соревновательные возможности поэтической практики, представляемые как углубление в познание непостижимого идеала, опиралось представление о неисчерпаемости канона [Куделин, 1994: 236–252].
Стремление превзойти образец очень ярко и последовательно выражается в самовосхвалениях средневековых поэтов. Вот, к примеру, что говорит на эту тему трубадур Пейре Видаль: « Я так хорошо умею прилаживать и соединять слова и музыку, когда у меня хорошая тема, что никто не годится мне в подмет ки по части сложной и искусной поэзии » [Мейлах: 83–84].
«Самовосхваление» ( фахр ) поэта в арабской и персидской классической поэзии, как и приведенную цитату из провансальской лирики следует воспринимать в контексте конкретной системы законов творчества, которые определялись нормативной поэтикой. Их ни в коем случае нельзя интерпретировать как откровенную похвальбу или «саморекламу» — это заведомая модернизация.
Высказывания поэтов о собственном искусстве выражали их стремление к принципиально недосягаемому идеалу, существующему лишь в сфере божественного. Этот идеал, оставаясь до конца непостижимым, все же мыслился до определенной степени доступным для человеческого познания (см. об этом подробнее: [Куделин, 1994: 248–252, 258–259]). Каждый автор стремился внести свой вклад в приближение к этому идеалу, пройти свой отрезок этого бесконечного маршрута. В этом смысле ни одному из сочинителей не могло быть отдано преимущество, но одновременно и не закрывался путь к дальнейшему совершенствованию поэзии. Этот предвечный идеал в абстрактном смысле и есть канон. В конкретном же смысле канон воплощается в корпусе эталонных текстов, признанных лучшими на данный момент времени большинством участников литературной практики (сочинителями, теоретиками и критиками, ценителями). Ориентация на хронологически предшествующий образец не исключает, а предполагает его преодоление, хотя и не полную отмену. Каждый поэт, соревнуясь с предшественником, сам желает создать образцовое произведение, которое оттеснит предшествующий ориентир и займет его место. Искусность поэта в переработке и преобразовании традиционных мотивов являлась одной из составляющих эстетического впечатления [Куделин, 1994: 259].
Новизна как мерило поэтического таланта («новая песня», «новое слово», «новая манера»)
Характеризуя свой талант, средневековый поэт практически всегда отмечает новизну своих стихов в сравнении со старыми образцами. Именно такая позиция выражена в стихах трубадура Пейре Овернского (ок. 1130 — ок. 1190): « От века песня не была хорошей, если она похожа на песню другого » [Мейлах: 79]. С ним солидарен Низами, который, взявшись за уже известное и обработанное до него Фирдоуси в составе эпопеи «Шах-наме» историческое предание о царе Хосрове II Парвизе Сасаниде, в одной из глав интродукции к поэме «Хос-ров и Ширин» утверждает: «Я не стал рассказывать заново о том, что рассказал мудрец, / Ибо нет радости в том, чтобы пересказывать сказанное» (пер. М. Л. Рейснер, Н. Ю. Чалисовой)
[Рейснер, Чалисова: 232]. Поэт в создаваемом им произведении вступал в соревнование и с образцами, созданными в прошлом, и со своими современниками, отстаивая среди них свое первенство. Об этом свидетельствует, в частности, сирвента 8 того же Пейре Овернского «Сатира на двенадцать трубадуров». В этом стихотворении, где каждому из двенадцати поэтов отведена строфа, он высмеивает своих собратьев по перу. Настаивая на своем главенстве, поэт, тем не менее, не обошелся без самоиронии:
«А про Пейре Овернца молва, Что он всех трубадуров глава И слагатель сладчайших кансон; Что ж, молва абсолютно права, Разве что должен быть лишь едва Смысл его темных строк прояснен»
(пер. М. Неймана) [Мейлах: 183].
В подобном же ключе, но в более язвительном тоне, отзывается о поэтах-завистниках известный придворный поэт Хакани Ширвани (1126–1199)9:
«Клинки их языков не способны рассечь волос,
Если я не сделаю для них точильный камень из чистого колдовства.
Стрела моего таланта оперена Джабра‘илом, Ей нет нужды в их орлиных перьях.
Их сердца питаются сочными плодами моих стихов, Удивительно вкусного инжира не найдешь в их хвастливых [речах].
Если им нужен хлеб, они постучат в мою дверь, Без моего зерна [напрасно] льет воду их мельник. Словно лисы, они всегда ходят вслед за львами, Чтобы достались им в пищу куски крупа онагров.
Хакани, не страшись их бесполезного хвастовства,
В их тучах только вода и огонь (т. е. дождь и молния. — М. Р. ) 10 . Словно машшате , на ланитах невесты смыслов ( ма‘ани ) Завивай локоны ( зулф ) 11 стихов, а завистью их пренебреги» 12 .
В этом фрагменте одновременно присутствуют указания и на небесное происхождение поэтического дара, и на профессиональное мастерство поэта, украшающего «невесту смыслов».
Приведем еще один пример из Пейре Овернского, в котором он так заявляет о новизне своих стихов: « С новым сердцем , властью нового дара , с новым знанием и новым разумом , в но вой прекрасной манере хочу я начать новую , хорошо сделанную песню » [Мейлах: 79 (текст), 154 (перевод)].
Хакани Ширвани о новизне своих стихов тоже говорит как о «новой манере» и «новом слове»:
«Беспристрастные знатоки знают, что в области смысла и слова Я следовал новой манере , а не древнему обычаю.
Спросил я [у ветра]: "Кто ныне в мире [изрекает] новое слово ?" Ответил он: "Хакани — соловей из сада славословий"» 13 .
Обращает на себя внимание то, что люди одной эпохи, практически ровесники, Пейре Овернский и Хакани Ширва-ни, не просто обсуждают в своих стихах одну и ту же проблему авторской оригинальности и новизны, а используют для этого семантически близкую лексику. Этих двух поэтов связывают не контакты и взаимовлияния, а общие принципы нормативной поэтики. Поэт, находящийся в рамках «школы», состязается и с авторами, отделенными от него временнóй дистанцией, и с современниками, отстаивая свое право на лидерство ипревосходст во.
Заключение
Сходство в понимании принципов творчества, выявленное при сравнительном анализе мотивов авторской рефлексии провансальских трубадуров XII–XIII вв. и персидских придворных поэтов X–XII вв., носит системный типологический характер. И те, и другие воспринимали свой труд как профессиональный, требующий мастерства, приобретаемого путем освоения определенных навыков и приемов. Равно солидарны представители двух поэтических традиций и в намерении отстоять право на авторскую оригинальность своих сочинений. При всех различиях в генезисе и бытовании двух поэтических традиций нормы литературной практики обнаруживают универсальность, связанную с принципиальным единством типа художественного сознания и, соответственно, законов индивидуально-авторского творчества в рамках поэтического канона.
Данная статья может быть рассмотрена как своего рода популяризация достижений медиевистов — и востоковедов, и специалистов по западноевропейским литературам. Результаты исследований предшественников и старших современников, чей теоретический вклад в науку автор настоящей статьи широко использовала в собственных работах по истории персидской классической литературы, составляет ценный ресурс для дальнейшего развития компаративных исследований. Обращение к этим трудам, уже ставшим научным достоянием, побуждает молодое поколение литературоведов разных специальностей к собственному исследовательскому поиску, объединению творческих усилий и плодотворному сотрудничеству.
Сравнительный аспект изучения литератур, в том числе и традиционных, необходим на новой ступени развития отечественного литературоведения, когда теоретическое осознание универсального характера закономерностей мирового литературного процесса должно подкрепляться все более широким конкретным материалом. Как известно наличие универсалий (инвариантов) утверждается в теории именно через выявление суммы их многочисленных вариантов. Актуализация сравнительного подхода к художественным и литературно-теоретическим текстам разных эпох и традиций будет способствовать углублению обобщений, опирающихся на фундамент постоянно пополняющихся знаний о литературах мира в их единстве и многообразии.