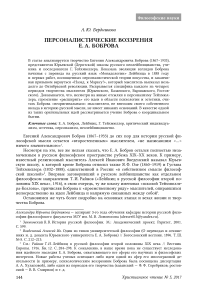Персоналистические воззрения Е. А. Боброва
Автор: Бердникова Александра Юрьевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется творчество Евгения Александровича Боброва (1867-1933), представителя Юрьевской (Дерптской) школы русского неолейбницианства, уче- ника и последователя Г. Тейхмюллера. Показана эволюция взглядов Боброва начиная с перевода на русский язык «Монадологии» Лейбница в 1888 году и первых работ, посвященных персоналистической теории искусства, и заканчи- вая призывом вернуться «Назад, к Марксу!», который мыслитель высказал неза- долго до Октябрьской революции. Раскрывается специфика каждого из четырех периодов творчества мыслителя (Юрьевского, Казанского, Варшавского, Ростов- ского). Доказывается, что, несмотря на явные отсылки к персонализму Тейхмюллера, стремление «расширить» его идеи в области психологии и эстетики, считать Боброва «неоригинальным» мыслителем, не внесшим своего собственного вклада в историю русской мысли, не имеет никаких оснований. В качестве одной из таких оригинальных идей рассматривается учение Боброва о координальном бытии
Е. а. бобров, лейбниц, г. тейхмюллер, критический индивидуализм, эстетика, персонализм, неолейбницианство
Короткий адрес: https://sciup.org/140223458
IDR: 140223458
Текст научной статьи Персоналистические воззрения Е. А. Боброва
Евгений Александрович Бобров (1867–1933) до сих пор для истории русской философской мысли остается «второстепенным» мыслителем, «не написавшим <…> ничего значительного»1.
Несмотря на это, все же нельзя сказать, что Е. А. Бобров остался полностью незамеченным в русском философском пространстве рубежа XIX–XX веков. К примеру, известный религиозный мыслитель Алексей Иванович Введенский называл Юрьевскую школу, к которой кроме Боброва относил также Я. Ф. Озе (1860–1919) и Густава Тейхмюллера (1832–1888), единственной в России «в собственном смысле философской школой»2. Впервые заговоривший о русском лейбницианстве как отдельном философском направлении Т. И. Райнов («Лейбниц в русской философии второй половины XIX века», 1916), в свою очередь, ту же школу именовал «школой Тейхмюлле-ра-Козлова», причисляя Боброва к «преемственному ряду» мыслителей, опиравшихся непосредственно на идеи Лейбница и напрямую связанных между собой3.
Остановимся же чуть более подробно на основных этапах и вехах жизни и творчества Боброва.
Евгений Александрович Бобров родился 24 января 1867 г. в Риге в крестьянской семье. Отец его, Александр Давыдович, служил коллежским асессором. Несколько поколений родственников являлись потомственными иконописцами4. В 1885 году, окончив с золотой медалью гимназию, Бобров поступил в Дерптский университет сразу на два отделения: философское и историко-филологическое. Еще будучи студентом и гимназистом, Бобров «зачитывался в подлинниках Фурье, „Утопией“ Т. Мора, „Государством“ Платона»5 и причислял себя к «ревностным» социалистам-утопистам.
Учителем и наставником Боброва почти сразу стал профессор Густав Тейхмюллер, переехавший в 1870 г. в Дерпт из Базеля. В своей юности Тейхмюллер обучался в Берлинском университете у Адольфа Тренделенбурга (1802–1872), автора «Логических исследований» (Logische Untersuchungen, 1840), представителя «второй волны немецкого идеализма»6 и «неоаристотелизма».
В основу своей собственной системы взглядов Тейхмюллер положил учение о «трех великих мировоззрениях» Тренделенбурга7. Желая устранить односторонний взгляд на решение вопроса о дуализме субстанций (когда предпочтение отдается либо материи, либо духу), к выделяемым Тренделенбургом материализму, идеализму и спинозизму Тейхмюллер добавил «четвертое великое мировоззрение» — метафизику Лейбница, считая, что только в ней «снимается» догматизм, присутствовавший во всей истории европейской мысли начиная с античных времен.
В учении Лейбница Тейхмюллера привлекала идея о монаде как личности, «я» и ее внутреннем опыте: «находящийся вне нас мир должен состоять из точно таких же нематериальных субстанций, как та, о которой мы имеем знание и опыт внутри себя»8. Сам Лейбниц высказывал подобные идеи еще в работе 1695 г. «Новая система природы и общения между субстанциями…», говоря об «атомах-субстанциях» или «метафизических точках», но еще не обозначая их термином «монады»: «…через посредство души, или формы, существует истинное единство, соответствующее тому, чему дают название „я“ в нас самих»9. Монадология Лейбница, таким образом, была переосмыслена Тейхмюллером в персоналистическом ключе; главным свойством монады для него было сознание индивидуальности , которое «нельзя отнять даже у кричащего младенца»10.
Еще при жизни своего учителя Бобров успел выполнить перевод «Монадологии» Лейбница на русский язык, о чем свидетельствует нам письмо к редактору «Трудов Московского психологического общества» В. П. Преображенскому от 17 января 1888 г.:
«Милостивый государь!
Господин Редактор!
При сем следует рукопись, заключающая в себе перевод „Монадологии“ Лейбница. Быть может, Вы найдете возможность поместить этот мой перевод на страницах Вашего уважаемого издания. Напечатание этого перевода, буде он окажется годным для помещения, — в возможно непродолжительном времени, имеет для меня большое, хотя, отнюдь, не материальное значение. О гонораре и прочих условиях печатания мы можем списаться после. Во всяком случае, мне понадобится несколько экземпляров будущих оттисков. Я надеюсь на Вашу любезность, и ожидаю возможно скорого ответа.
Готовый к услугам Е. А. Бобров» 11.
Перевод Боброва стал косвенной причиной появления двух альтернативных традиционно-лейбницианской версии «Монадологии» русских проектов, авторами которых были активные члены Московского психологического общества (МПО) Н. В. Бугаев («Основные начала эволюционной монадологии», 1892) и П. Е. Астафьев («Опыт начал критической монадологии», 1893). В 1890 г. Бобров и сам сделался действительным членом МПО. В это же время завязалась его дружба и переписка с бывшим профессором Киевского университета, панпсихистом и нео-лейбницианцем А. А. Козловым (1831–1901).
Вместе с Козловым в конце 1890-х гг. Бобров решает перевести на русский язык две работы Тейхмюллера: «Бессмертие души» (1895) и «Дарвинизм и философия» (1894). К сожалению, Козлов оказался не в состоянии самостоятельно заняться редактированием переводов из-за проблем со здоровьем. В итоге эти работы вышли под редакцией Боброва, а переводом текстов занимался некий «врач А. К. Николаев»12. Интересно, что в качестве главного недостатка этих работ рецензенты (в том числе и сам Козлов) практически единодушно называли тяжелый и трудно читаемый русский язык13, что отнюдь не способствовало распространению учения Тейхмюллера в России и популяризации его идей, к которой Бобров так стремился.
В содержательном плане Бобров хотел дополнить и развить незавершенный проект персоналистической системы взглядов своего учителя теорией искусства («О понятии искусства. Умозрительно-психологическое исследование», 1894).
Уже в этой работе Бобров называет свое собственное учение критическим индивидуализмом и формулирует его основные принципы. «Критический» — от критического метода Канта, основы которого были заложены еще Августином, Беркли, Юмом, Декартом и Локком; «индивидуализм» — от принципа «я», который в этой системе, так же как и в персонализме Тейхмюллера, играл заглавную роль.
С 1896 до 1903 г. Бобров был экстраординарным профессором на кафедре философии Казанского университета. К этому периоду относится его проект «Философия в России» (1899–1903) в шести томах, для подготовки которого Бобров проделал большую работу с архивными источниками Москвы и Юрьева. Главной же для его собственного мировоззрения работой этого периода можно назвать «Бытие индивидуальное и бытие координальное» (1900).
Принцип координации, представленной как особый род бытия 14, Бобров в этой работе заимствует у Тейхмюллера15 и у Лотце16. Главной целью для мыслителя при этом было стремление найти альтернативу принципу предустановленной гармонии Лейбница, согласно которому «монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти»17. Такое желание «открыть окна» между монадами было присуще всему русскому неолейбницианству в целом.
Бобров выделял три вида координального бытия:
-
1. Космическая координация — «связывает все существа в единый мир, в единую космическую систему», а также формирует «наше чувственное тело»18.
-
2. Психическая координация — связывает воедино «акты, способности и функции души»; к последним Бобров при этом относит мысль , движение и чувство . Кроме того, все проявления душевной деятельности при помощи категории обладания координированы, как акциденции с субстанцией, с «я» как соотносительной точкой 19.
-
3. Логическая координация — объединяет отдельные понятия в заключения; заключения — в силлогизмы; силлогизмы, наконец, — в целостную систему координат, или «топику понятий» , из которой состоит знание 20.
Учение о координации на рубеже XIX–XX вв. в европейской философской традиции было достаточно популярным. К примеру, можно вспомнить о законе принципиальной координации субъекта («я») и окружающего его мира («среды») Р. Авена-риуса21. В России же разработкой учения о гносеологической координации, отдельно и независимо от Боброва, занимался Н. О. Лосский.
К сожалению, попытка переосмыслить принцип предустановленной гармонии Лейбница для Боброва оказалась главным «камнем преткновения», который он так и не смог «перешагнуть». Сам Бобров объяснял это так: «…я не видел исхода от солипсизма, либо от предустановленной гармонии, и впал в скептицизм…»22.
Но все же вопрос о координальном бытии волновал Боброва на протяжении всей его жизни, о чем свидетельствуют нам черновики его работ, написанные им «в стол» без надежды на публикацию уже при советской власти («Заметки и выписки философского содержания», 1928): здесь он приходит к выводу о том, что общение между индивидами возможно только в том случае, если существует единая субстанциальная основа бытия, становясь, таким обр азом, на позиции философского монизма 23.
В целом в своем творчестве Е. А. Бобров был ярким представителем достаточно популярного в ту пору философского ревизионизма: высказав в своей работе «Из истории критического индивидуализма» (1898) призыв «Назад, к Лейбницу!»24, в конце своего творческого пути он сформулировал похожий призыв вернуться «Назад, к Марксу!», подчеркивая, что это необходимо сделать для того, чтобы лучше уметь «различать Маркса и марксистов»25.
Бобров умер от сердечной недостаточности в 1933 г. в Ростове-на-Дону. Почти сразу же после его смерти на волне советской пропаганды его философия была признана «идеалистической», а сам он — даже записан в «белогвардейцы» и «личные консультанты генерала Деникина». Впрочем, последнему факту ученые не находят подтверждения до сих пор26.
Для современных историков русской философии Бобров, как и многие другие представители русского лейбницианства или «метафизического персонализма», так и остался «провинциальным философом»27. Отчасти такое мнение подкреплялось словами самого Боброва, который нередко упоминал в предисловиях к своим философским трудам, автобиографиях и личных анкетах о том, что «своей философской системы так и не создал»28.
Тем не менее, заслуги Боброва как представителя русского неолейбницианства нельзя недооценивать. Фактически именно он стал первым «исконно-русским лейб-ницианцем», заложив основы этого направления, впоследствии развитые другими его представителями.
Список литературы Персоналистические воззрения Е. А. Боброва
- Авенариус Р. О предмете психологии/пер. с нем. И. Макарова. М.: Едиториал УРСС,2003. 88 с.
- Бобров Е. А. Биографические материалы. Автобиография//ИРЛИ РАН. Ф. 677. Оп. 1.Ед. хр. 240. 40 л.
- Бобров Е. А. Воспоминание о Г. Тейхмюллере//Философия в России. Материалы, ис-следования, заметки. Казань, 1899. Вып. 1. С. 25-48.
- Бобров Е. А. Заметки и выписки философского содержания//НИОР РГБ. Ф. 44. К. 5. Ед.хр. 53. 28 л.
- Бобров Е. А. Из истории критического индивидуализма. Казань, 1898. 51 c.
- Бобров Е. А. Краткий отчет о занятиях во время ученой командировки летом 1898 г.С приложением двух рассуждений: I). О координальном бытии; II). Искусство и христиан-ство. Казань, 1900. 29 c.
- Бобров Е. А. О понятии искусства. Умозрительно-психологическое исследование. Юрьев,1894. 248 с.
- Бобров Е. А. Письмо Е. А. Боброва редактору «Трудов Московского психологическо-го общества» с просьбой напечатать его перевод «Монадологии» Лейбница от 17 января1888 г.//ИРЛИ РАН. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 430.
- Введенский Алексей Ив. Один из типов университетской философии (О переводахи сочинениях и. д. доцента Юрьевского университета Е. А. Боброва)//Богословский вест-ник. 1896. Т. III. № 8. С. 212-228.
- Зеньковский В. В. История русской философии. М.: Академический проект; Раритет,2001. 880 с.
- Козлов А. А. Густав Тейхмюллер//Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 24.С. 175-189; Кн. 25. С. 111-151.
- Лейбниц Г. В. Монадология/пер. с нем. Е. А. Боброва//Он же. Сочинения: в 4 т./ред.и сост., авт. вступит, статьи и примеч. В. В. Соколов; перевод Я. М. Боровского и др. М.:Мысль, 1982. Т. I. C. 413-430.
- Лейбниц Г. В. Новая система природы и общения между субстанциями, а такжео связи, существующей между душою и телом/пер. с франц. Н. А. Иванцова//Он же. Со-чинения: в 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. I. С. 271-282.
- Райнов Т. И. Лейбниц в русской философии второй половины XIX века//ВестникЕвропы. 1916. Кн. 12. С. 284-298.
- Смирнов В. В. Консультант генерала Деникина, или Горе от ума. Очерк о профессоре Донского университета Е. А. Боброве // Научно-культурологический журнал. 2013. № 2.URL: htp://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2=artic lesб&textid=3439 (дата обращения: 25.10.2015).
- Тейхмюллер Г. Бессмертие души/пер. с нем. А. К. Николаева под ред. Е. А. Боброва.Юрьев, 1895. VIII+200 с.17. Тейхмюллер Г. Дарвинизм и философия/пер. с нем. А. К. Николаева под ред.Е. А. Боброва. Юрьев, 1894. 100 с.
- Тейхмюллер Г. Действительный и кажущийся мир/пер. с нем. Я. Красникова. Казань,1913. 389 с.
- Хулапова А. А. Историко-психологические особенности теории критического индивидуализма Е. А. Боброва. Дис. канд. психол. наук. Ростов н/Д.: ЮФУ, 2011. 206 с.
- Beiser F. C. Late German Idealism: Trendelenburg and Lotze. New York: Oxford UniversityPress, 2013. 333 р.
- Lotze H. Metaphysik. Leipzig, 1841. VII+329 p.22. Trendelenburg A. Historische Beitrage zur Philosophie Bd. II. Berlin, 1855. 355 р.