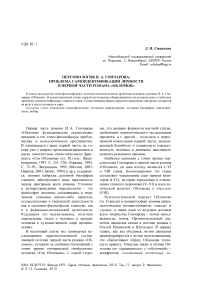Персонология И. А. Гончарова: проблема самоидентификации личности в первой части романа «Обломов»
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется этико-философский и психологический аспекты проблемы человека в романе И. А. Гончарова «Обломов». В композиционной логике первой части романа обнаруживается последовательное углубление проблемы самоидентификации главного героя, в повествовании формулируются важнейшие авторские воззрения на роль и место человека в мире.
Личностное самоопределение, этическое мировоззрение, духовная биография, ответственность, выбор
Короткий адрес: https://sciup.org/14737737
IDR: 14737737 | УДК: 82:
Текст научной статьи Персонология И. А. Гончарова: проблема самоидентификации личности в первой части романа «Обломов»
Первая часть романа И. А. Гончарова «Обломов» функционально осуществляет введение в его этико-философскую проблематику и психологическое пространство. В одиннадцати главах первой части, не говоря уже о широко прокомментированном в науке относительно самостоятельном фрагменте «Сон Обломова» (гл. IX) (см.: [Краснощекова, 1997. С. 251–270; Отрадин, 1994. С. 72–93; Ляпушкина, 1992; Матлин, 2003; Пырков, 2003; Бёмиг, 1994] и др.), содержится, помимо наброска духовной биографии главного действующего лица, персонологическая программа всего романа. Уточним: в литературоведении персонология – это философия человека, сложившаяся в творческом сознании какого-либо писателя, осуществленная в творческой деятельности как в системно-философском единстве, так и в формально-поэтической целостности. Редуцируя это высказывание, получим определение: «идея о человеке и дискурс человека в художественном мире произведения».
В настоящей статье мы занимаемся исследованием персонологической составляющей поэтики первой части романа «Обломов», оставляя за скобками богатейший с точки зрения гончаровской «мифологии» человека «Сон Обломова». С одной сторо- ны, это вызвано форматом научной статьи, требующим монологического исследования предмета, а с другой – подходом к персонажной композиции первой части, моделирующей бытийную и социальную тождественность человека в динамике настоящего момента романного времени.
Наиболее ценными с точки зрения пер-сонологии Гончарова в первой части романа «Обломов», на наш взгляд, являются I–VI и VIII главы. Композиционно эти главы составляют чередование сцен приема визитеров (I–IV), историю взросления и становления главного персонажа (V–VI) и идеологической монолог Обломова о « других » (VIII).
Психологический портрет Обломова (гл. I) вводит в концептосферу романа антропологические мотивы-концепты «мысль» и «душа», а также один из ведущих мотивов всего творчества Гончарова – мотив неподвижности, покоя. Противоположный ему мотив движения связан в поэтике романа с Ольгой Ильинской и Штольцем. В первых главах, как мы убедимся, мотив движения трансформируется в мотив псевдодвижения, что обеспечивает образу Обломова этическую правоту. Отметим также в облике Обломова его «сращенность» с «оболочкой» – шлафроком; « настоящий восточный ха-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 2: Филология © Л. Н. Синякова, 2012
лат» и «длинные, мягкие и широкие», ассоциирующиеся с негой Востока туфли непосредственно примыкают к психологическому портрету героя: «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи… в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу <…>, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. <…> ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. <…> Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга <…> Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии и дремоте» [Гончаров, 1979. Т. 4. С. 7–8] 1. Вещи как продолжение облика хозяина обнаруживают отсутствие движения в доме и охватившую живущих в нем людей «бездонную лень» 2: «желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них»; «все… запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия» (С. 9). Вслед за вещами в фокусе авторского взгляда появляется Захар – продолжение и своего рода демиург этого микромира, ведь из препирательства слуги с барином следует, что именно Захар так запустил комнату. Таким образом, в первой главе выстраивается своеобразная система отражений главного персонажа – в вещах, интерьере и одичавшем Захаре («Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам» (С. 14–15)). Локус героя поглощает всякое проявление жизненной энергии – и это «затухание» жизни в пространстве Обломова вступает в противо- речие с «открытостью и ясностью» его души – животворного начала всякой личности (см.: [Степанов, 2004. С. 736–740; Уры-сон, 2003. С. 21–27]).
Во второй и третьей главах Обломова посещают его знакомые, каждый из которых по-своему эмблематично представляет определенный стиль жизни. Первый посетитель – Волков – светский человек, кружащийся в вихре удовольствий. Обломов реагирует на приглашения Волкова в модные дома одинаково: ему скучна поверхностная жизнь света. «– У Муссинских ? Помилуйте, да там полгорода бывает . <…> Это такой дом, где обо всем говорят . – Вот это-то и скучно , что обо всем , – сказал Обломов . – Ну , посещайте Мездровых <…> там уж об одном говорят , об искусствах <…> – Век об одном и том же – какая скука ! Педанты , должно быть ! – сказал , зевая , Обломов . <…> И вам не лень мыкаться изо дня в день ?» (С. 21). После того как Волков удалился, Обломов размышляет: «“ В десять мест в один день – несчастный ! <…> И это жизнь ! <…> Где же тут человек ? На что он раздробляется и рассыпается ? Конечно , недурно заглянуть в театр и влюбиться в какую-нибудь Лидию <…> да в десять мест в один день – несчастный !” – заключил он , перевертываясь на спину и радуясь , что нет у него таких пустых желаний и мыслей , что он не мыкается , а лежит вот тут , сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой » (С. 23).
Затем Обломова навещает преуспевающий чиновник Судьбинский, и вновь следует рассуждение героя о том, что « как мало тут человека-то нужно : ума его , воли , чувства – зачем это ?» (С. 27). Обломов, не принадлежащий к бюрократическому сообществу, определяет основное преимущество своей свободы от него: это возможность дать « простор его чувствам , воображению » (С. 27). В сферу художественной антропологии романа вводится необычайно важная для Обломова координата «внутренней жизни» – чувства (и, соответственно, его «органа» – сердца и сердечности как необходимого качества человека) 3.
Когда же приходит литератор «обличительного» направления Пенкин, настойчиво рекомендуя Обломову прочесть очередной опус, в котором «обнаружен весь механизм нашего общественного движения», Обломов вдруг начинает сопротивляться и требовать «гуманитета»: «...изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? <...> Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку <.> Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой <.> Человека, человека давайте мне! <.> любите его...» (С. 29-30). Обратим внимание на эмотивность высказывания Обломова. Прагматически это выглядит как риторический жест: «воспламенившись», «вдохновенно» и «встав» - «почти крикнул» (С. 29–30), причем автор указывает на необычность такого поведения своего героя: «вдруг воспламенившись», «вдруг заговорил вдохновенно». Впрочем, так же неожиданно Обломов возвращается к привычной ему апатии: «Он вдруг смолк <.> и медленно лег на диван» (C. 30). Протест Обломова против «социологической» модели человека обусловлен тем, что сущность человека лежит вне и выше социально-маркированных и особенно социально дискриминирующих конвенций не только литературы, но и социомира в целом. Требование представить «человека» непременно соотносится с условием любви к нему. Так все более настойчиво утверждается Оболомовым приоритет «сердца» перед другими качествами человеческого существа 4.
Следующий приятель Обломова – человек настолько стремящийся ускользнуть от собственной индентичности, что он теряет и имя – главное, номинативное и онтологическое, отличие от других 5. «Вошел человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой поре, когда трудно бывает угадать лета; не красив и недурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многие называли Иваном Ивановичем , другие - Иваном Васильичем, третьи - Иваном Михайлычем. Фамилию его называли тоже различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев» (С. 31–32). Васильев-Андреев-Алексеев полностью утратил индивидуальность: он не оставляет ни зрительного, ни вербального, ни ментального «следа» в восприятии окружающих. «Постороннему, который увидит его в первый раз, скажут имя его - тот забудет сейчас, и лицо забудет; что он скажет - не заметит. Присутствие его ничего не придаст обществу, так же как отсутствие ничего не отнимет от него. Остроумия, оригинальности и других особенностей, как особых примет на теле, в его уме нет» (С. 32).
Этот «протеистический» персонаж, готовый принять какую угодно персональную форму в зависимости от коммуникативной ситуации, представляет собой как бы абсолютное значение человеческой элиминации в персонологии романа «Обломов». Обломовские поиски человека в том ограниченном, но репрезентативном с точки зрения «человековедения» пространстве, которое он воспринимает, в фигуре Алексеева получают печальное завершение.
Тихому Алексееву в романе противопоставлен шумный и бесцеремонный Таранть-ев, чья жизненная история изложена в третьей главе. Тарантьев «был взяточник в душе <.> в кругу своих знакомых он играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел» (С. 42). Этот человек, един-ственный¸ кого автор «удостаивает» сравнения с животным, и противопоставлен безликому Алексееву, и сближается с ним по признаку «непроявленной» человечности. Более того, именно он и Алексеев, «эти два русских пролетария», составляли ближай- ного <…> наиболее адекватная плоть личности» [Флоренский, 2009. С. 163].
ший круг Обломова в отсутствие Штольца. С Тарантьевым, привносившим в его сонное существование « жизнь , движение , а иногда и вести извне », он мог имитировать свою сопричастность внешней жизни: « Обломов мог слушать , смотреть , не шевеля пальцем , на что-то бойкое , движущееся и говорящее перед ним » (С. 43). Отметим деперсонифицирующее местоимение «что-то», переводящее предмет наблюдений Обломова в разряд неодушевленных. Алексеев оставался идеальным слушателем и… тоже, скорее, предметом обстановки, нежели живым человеком: « Если он (Обломов. – Л. С .) хотел жить по-своему , то есть лежать молча , дремать или ходить по комнате , Алексеева как будто не было тут : он тоже молчал , дремал или смотрел в книгу <…> Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться <…> тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник , разделявший одинаково согласно и его молчание , и его разговор …» (С. 43).
Волков, Судьбинский, Пенкин и Таран-тьев представляют собой начало псевдодвижения, того не имеющего подлинного онтологического смысла перемещения – в светской или служебной среде, в литературных кругах, в маргинально-служебных и домашних делах, – которое не ценится Обломовым с его требованием «гуманитета». Во всех формах этого суетливого проживания жизни Обломову видится утраченное величие человека, его неподлинность, сур-рогатность. По замечанию И. Ф. Анненского, в Обломове «останется… веками выработанное ленивое, но упорное сознание своего достоинства <…> крепко сидящее сознание независимости» [1991. С. 229]. Критик рассматривал личность Обломова в культурно-исторической парадигме, называя его «консерватором всем складом, инстинктом и устоями», живущим «медленным, историческим ростом» [Там же]. Однако первичным в структуре образа Обломова представляется не инерция культурно-исторического самоопределения, а личностная свобода, одно из главных условий гармонического существования. Наблюдая «раздробление» человека в десяти делах, Обломов отвергает его не столько из чувства самосохранения, символически выраженного в его знаменитом халате, в который можно было «дважды завернуться», сколь- ко по причине забвения человеком его высшей сущности – души. Ситуацию мнимого диалога Обломова с его собеседниками Е. Г. Эткинд назвал «взаимонепониманием», ведущим, в конце концов, к «непониманию себя» (см.: [Эткинд, 1999. С. 131–147]).
Е. А. Краснощекова, определяя роман «Обломов» как роман испытания, генетически связанный с романом воспитания (см.: [Краснощекова, 1997. С. 221–356]), главным мотивом в психологической биографии Обломова (гл. V–VI) считает мотив преждевременного угасания [Там же. С. 243–249]. Действительно, история жизни Обломова, приведенная в этих двух главах, выстроена как постепенное «сворачивание» личности до крошечного места на диване. Общие для всех молодых людей мечты о «поприще», «роли в обществе» оставили Обломова, а «лучи глаз сменились тусклыми точками» (С. 57). «В первые годы пребывания в Петербурге <…> покойные черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сияли огнем жизни, из них лились лучи света, надежды, силы» (С. 60), но их сменили «страх и тоска на службе» (С. 59), а затем и вовсе Обломов «открыл, что горизонт его деятельности и житья-бытья кроется в нем самом» (С. 65); он «любил уходить в себя и жить в созданном им мире» (С. 67). Мировосприятие Обломова сближается с мировосприятием погруженного в свой фантастический мир типа «мечтателя», наиболее ярко представленного в творчестве Достоевского. «Всечеловеческое» и «личное» в обломовских мечтах причудливо переплетены, утопизм сознания не исключает наивной героизации собственного вымышленного облика, по сути, романтически эгоцентричной. Так, «он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремление куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц…» (С. 67). Вместе с тем Обломов «любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказыва- ет подвиги добра и великодушия. Или изберет он арену мыслителя, великого художника: все поклоняются ему; он пожинает лавры; толпа гоняется за ним…» (С. 68). Разрыв «героя» и «толпы» в романтических мечтаниях Обломова проецируется в действительности на те ментальные границы, которыми мечтатель ограждает от себя «других».
Обломовская философема о «других» составляет идеологический сюжет восьмой главы. Обсуждается неизбежный переезд на другую квартиру. Захар затрагивает запретную, с точки зрения его барина, тему «других»: «Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно…» (С. 90). «Здравый смысл» верного слуги заставляет Обломова привстать (несколькими минутами ранее он принял привычную ему «защитную» позу: «положил обе руки на голову, сжался на стуле в комок и так сидел, никуда не глядя, ничего не чувствуя» (С. 87)) – так же, как в эпизоде с литературным маргиналом Пенкиным. Обломов «вникал в глубину этого сравнения», узнав, что для Захара он не уникален, не единственен. Мысль Обломова достигает экзистенциально-философских высот. Сначала он упрекает Захара с социально-инерционных позиций «обломовщины» – «другим» не свойственно самоощущение человека, опирающегося на многие поколения людей, для которых «другие» работали (С. 90–94), затем устремляется к размышлениям о предназначении человека в целом. «Настала одна из ясных сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью <…> и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. <…> А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее <…> Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то как будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища» (С. 99). Обломов, сам того не ведая, постулирует основной принцип христианской антропологии. Божий мир совер- шенен, несовершенен лишь человек – но исключительно по своей вине. Право свободного выбора добра или зла остается за человеком и требует осознанного решения (см.: [Лосский, 1991. С. 244–249]). Равнодушие к дару Божьему порождает преждевременное «замирание» («умирание») души. Именно в следующей главе Илья Ильич видит сон, возвращающий его в состояние «ангельской» невинности, и именно пробуждаясь ото сна, встречает приехавшего Штольца. Начинается вторая часть романа – история «возрождения» Обломова.
Таким образом, в первой части романа И. А. Гончарова «Обломов» исследуется проблема самоотождествления человека с окружающим его миром, его этическая природа и в целом – проблема места человека в мироздании. В духовной ситуации Обломова утверждается составляющее суть персонализма «основное и центральное положение личного бытия в составе мира» [Лосский, 1994. С. 284]. Центральный персонаж романа остается единственным человеком, способным преодолеть прагматические способы существования, присущие остальным участникам сюжетного действия. Личностная цельность Обломова, сохранение им, даже в процессе «угасания», инстинкта «сердца», свидетельствует о его – и подразумеваемой стоящей за ним всеобщей – способности к восстановлению. В этом случае границы мира и границы личности совпадут в гармоническом единстве.
GONCHAROV’S PERSONOLOGY: THE PROBLEM OF SELF-IDENTIFICATION AT THE 1st PART OF THE NOVEL «OBLOMOV »