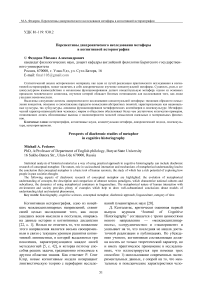Перспективы диахронического исследования метафоры в когнитивной историографии
Автор: Федоров Михаил Александрович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статистический анализ исторического материала, как один из путей реализации практического исследования в когнитивной историографии, может включать в себя диахроническое изучение концептуальной метафоры. Сущность, роль в социокультурном взаимодействии и механизмы функционирования делают концептуальную метафору одним из основных процессов человеческого семиозиса, изучение которой обладает богатым потенциалом для исследования того, как люди ушедших веков мыслили. Выделены следующие аспекты диахронического исследования концептуальной метафоры: эволюция образного осмысления концептов, описание и сопоставление парадигм осмысления абстрактных понятий, характеризующих как национальные культуры, так субкультуры, динамика функционирования метафорических контейнеров в лингвокультуре. Метафорический характер взаимодействия человека с миром и обществом обеспечивает более чем достаточное количество примеров, позволяющих делать обоснованные выводы о закономерностях моделей осмысления идеальных и материальных феноменов.
Историография, когнитивные науки, концептуальная метафора, диахронический подход, лингвокуль-тура, категория времени
Короткий адрес: https://sciup.org/148182677
IDR: 148182677 | УДК: 81-119:
Текст научной статьи Перспективы диахронического исследования метафоры в когнитивной историографии
Когнитивная историография, одно из новейших междисциплинарных направлений, ставит своей целью исследование того, как люди ушедших веков мыслили и поступали, опираясь на данные истории и когнитивных дисциплин [22, с. 1]. Нельзя не отметить то, что появление этого направления является весьма своевременным в связи с текущим уровнем развития когнитивной лингвистики, в которой выделяются три поколения, характеризующиеся каждое своей методологией [5, с. 42], и которая поэтому способна решать задачи, традиционно относимые к другим областям знания. Как отмечает Р. Сент Клэр, новые когнитивные модели возвращают лингвистическую теорию с периферии исследо- ваний гуманитарных наук [20].
Д. Ксигалатас, критически оценивая первый выпуск журнала “Journal of Cognitive Historiography” соглашается с тремя ценностями нового направления — «междисциплинарность», «сотрудничество» и «эксперимент» и указывает на то, что последняя не нашла достаточной реализации в публикациях. По убеждению ученого, когнитивная составляющая должна носить не только теоретический характер, но и иметь практическое применение в исследованиях, что иллюстрируется при помощи трех способов: 1) использование современных экспериментальных данных, с опорой на то, что ментальные и поведенческие характеристики чело- века являются практически неизменными на протяжении нескольких тысячелетий; 2) построение гипотезы на основе исторического материала и проведение эксперимента с участием современных испытуемых, исходя из тех же предпосылок; 3) применение системного исчисления и статистического анализа исторического материала [22, с. 197–198].
В качестве примера последнего метода ученый приводит пример сопоставительного метода или естественного эксперимента (natural experiment), в котором роль лабораторных условий играют пространственные и временные последовательности в природе. Диапазон формата такого эксперимента может быть достаточно широким, включая компьютерное моделирование и мыслительный эксперимент [18, с. 386].
В этой связи хочется обратить внимание на диахронический потенциал исследования концептуальной метафоры. Если мы согласимся, что тексты являются полноправным историческим материалом, представляющим собой одну из разновидностей взаимодействия автора и аудитории в определенном культурном контексте, а концептуальный анализ обязан быть статистически точным, то исследование метафоры более чем отвечает искомой цели — исследованию особенностей мышления, представленных в истории культуры.
Прежде всего необходимо остановится на следующих вопросах: определение метафоры, ее функция в языковой деятельности и специфика метафорического осмысления объектов. Современная теория метафоры уже отошла от аристотелевского определения метафоры как скрытого сравнения и трактует ее как средство осмысления идеальных и материальных объектов. Так, Э. Кассирер называет метафорой сознательный перенос названия одного представления на другое при том, что оба значения остаются вполне определенными и самостоятельными [17, с. 86– 87]. Дж. Лакофф и М. Джонсон предлагают более краткое определение — понимание и переживание одного объекта в терминах другого [19, с. 5].
Раскрывая роль метафор, Х. Ортега-и-Гассет подчеркивает, что метафоры необходимы для того, чтобы сделать нашу мысль доступной как для других, так и собственного мышления, поскольку не все объекты легко воспринимаются мыслью. Именно для таких предметов, сложных и трудноуловимых, наше сознание обращается к метафоре, чтобы осмыслить на их примере объекты понятные и легко доступные восприятию. Например, слова с конкретным значением ис- пользуются для обозначения явлений психологического порядка [8, с. 71–72].
-
Н. Д. Арутюнова расширяет этот список, указывая, что метафора делает возможным существование лексики «невидимых миров», предикатов, характеризующих абстрактные понятия, предикатов широкой сочетаемости и предикатов тонкой семантики [1, с. 9]. Рассуждая о метафорических основах мышления, Р. Сент Клэр указывает, что употребление конкретных понятий для осмысления абстрактных носит систематический и непроизвольный характер [20].
М. Блэк считает, что, кроме использования метафоры для употребления слов в новом значении при отсутствии буквального выражения, с каждым словом связано определенное множество представлений, и соединение двух слов, относящихся к разным таксономическим классам, имеет своим результатом наложение главного субъекта на область представлений вспомогательного и тем самым более глубокое понимание характера главного субъекта. Так, называя человека волком, говорящий указывает на такие качества человека, как свирепость, вероломность и антогонистичность. При этом ученый подчеркивает, что неметафорические суждения, которыми можно было бы заменить метафору, не обладают и половиной информирующей силы оригинала [2, с. 159–169].
Д. Дэвидсон углубляет эту мысль, говоря о том, что метафора, заставляя увидеть один объект в свете другого, влечет за собой прозрение, при этом метафора употребляется в сферах, не являющихся пропозициональными и конечными, а открытых для интерпретации [3, с. 190– 191]. Метафора является актом познания, примером коммуникативного использования действительности [6, с. 12–13], т. е. декларацией собственного видения объекта.
М. Минский, описывая наложение множеств представлений, относящихся к разным объектам в терминах фреймов, называет его одним из самых могущественных инструментов мышления, поскольку это дает увидеть один предмет в свете другого и применить знания и опыт, приобретенные в одной области, для решения проблем в другой области [7, с. 291]. Таким образом, изучение метафоры имеет самые широкие перспективы, позволяя не только раскрывать содержание мысли, но ее направление, выделяя базисные понятия, используемые как основание для определения остальных.
Раскрывая специфику метафорического осмысления действительности, Дж. Лакофф и М. Джонсон указывают на то, что метафора, под- черкивая одни характеристики объекта, затемняет другие, например, осмысление спора в терминах войны затушевывает его возможности как взаимодействия в поиске общей истины [19, с. 12]. Как отмечает Э. Кассирер, то, что не имеет имени, не существует в языке и игнорируется говорящими, а вещи, названные одинаково, кажутся схожими [17, с. 95], что позволяет отнести метафору к примерам языковой относительности в ее трактовке А. Вежбицкой: языковое выражение направляет наше восприятие определенным образом при том, что влияние языка не является абсолютным и может быть преодолено при необходимости [21, с. 5].
Однако отметим, что преодоление сложившихся способов выражения, в сущности, является созданием новых метафор, являясь вотчиной поэтов, писателей или философов, и поэтому носители языка в подавляющем большинстве случаев используют существующие способы осмысления и выражения, и, следовательно, относительность способов мышления, выражаемая в культуроспецифичных метафорах, есть неоспоримый культурный факт.
Указанная выше прерогатива на создание новых метафор продиктована не пессимизмом в отношении возможностей наивного носителя языка к созданию новых средств выражения, а спецификой коммуникации, которую Р. Келлер выразил в формулировке статических и динамических правил языка, где первые способствуют устойчивости имеющихся способов общения, а вторые — их изменению. К первым относятся максимы (1) «говори так, чтобы тебя поняли» и (2) «говори так, чтобы признали твою принадлежность к определенной группе. Ко вторым относятся (1) «говори так, чтобы на тебя обратили внимание», (2) «говори так, чтобы тебя не признавали относящимся к группе», (3) «говори забавно, остроумно и т. п.», (4) «говори особенно вежливо, льстиво, привлекательно и т. п.» и (5) «говори так, чтобы это не стоило тебе ненужных усилий» [4, с. 182–183]. Мы можем согласится, что максимы второй группы являются маргинальными и потому не оказывающими большого внимания на коммуникацию. Следовательно, коммуникативное взаимодействие как такое предполагает преимущественное использование устоявшихся образцов.
Возвращаясь к освещению и затемнению как характерному свойству метафоры, отметим, что метафора здесь сродни познанию как таковому. Ф. Уилрайт сообщает, что свет является наиболее распространенным архетипическим символом, характеризующим познание, где знание уподобляются визуальному восприятию вещей [11, с. 100–101]. Таким же образом метафорическое осмысление как раскрытие одних и умолчание других характеристик есть установление границ познания. Перефразируя метафору Х. Ортеги-и-Гассета [8, с. 72], можем сказать, что метафора делает возможным оперировать ментальными объектами.
Некоторые ученые противопоставляют метафору и рациональность как разные направления когниции. Так, Э. Кассирер противопоставляет два способа осмысления действительности — логический (дискурсивный), опирающийся на выделение различий, и метафорически-языковой, основанный на концентрации чувственного опыта [17, с. 89], однако В. Порус справедливо отмечает, что метафора и рациональность обладают общими функциями, что и объясняет их сосуществование в мышлении и делает различными, но равноправными инструментами понимания [9, с. 136].
Приводя многочисленные примеры метафо-ризации человеческого восприятия, Дж. Лакофф и М. Джонсон делают вывод, что метафорическое восприятие действительности носит такой же базовый характер, как и осязание, слух и зрение, поскольку метафоры дают возможность восприятия большей части окружающей действительности [19, с. 239]. О. И. Тарасова называет метафору наиболее богатой из человеческих потенций, связанной с открытием бытия человека в мире и обеспечивающей состояние перево-димости одного опыта в терминах другого, что, как подчеркивает ученый, является естественным для мыслящего сознания состоянием динамической открытости миру [10, с. 29–30].
Следовательно, концептуальная метафора является одним из двух основных механизмов образования понятий, в котором прослеживается специфика их осмысления, выражаемая в соединении двух или более сфер опыта и имеющая культурно обусловленную парадигму, включающую выделение определенных характеристик объекта. Это делает концептуальную метафору богатым источником для раскрытия особенностей менталитета во всем историческом диапазоне письменного периода, обладающего достаточно большим объемом текстов.
Как показывает опыт, исследование концептуальной метафоры позволяет раскрыть следующие особенности культурно-исторического контекста. Так, предметом рассмотрения может быть динамика образного осмысления концепта, проявляемая в изменении соотношения количества метафор, структурирующих данный кон- цепт. Исследование истории ценностного осмысления категории времени в британской лин-гвокультуре позволило выделить нескольких ракурсов: изменение количества маркеров метафоры, изменение частотности контекстов с исследуемой метафорой, изменение смысловой разработанности концепта, закрепление определенных маркеров в лингвокультуре на фоне спорадического характера их появления, обусловленного общественной природой языка. При этом были выделены инвариантные доминанты ценностного осмысления — понятия «расходование» и «утрата», и показатели эволюции — изменение количества характеристик ценного объекта, экстраполируемых на единицы времени [12].
Работа с большими массивами статистических данных позволяет делать обоснованные выводы относительно существования парадигм осмысления абстрактных понятий, характерных для определенных периодов истории культуры. Например, исследование специфики репрезентации категории времени в эпоху Просвещения показало, что имеются типологические сходства статистических показателей концептуальных метафор, к числу которых относятся деперсонификация, статичность и рациональность использования данной категории. Рассматриваемая парадигма отделяет персонифицированное изображение времени в XVII в. от естественноприродного понимания времени в XIX в. [15]. Необходимо заметить, что парадигмы осмысления абстрактных сущностей могут характеризовать различные эпохи, так и быть в одно и то же время моделями, конкурирующими и представляющими разные субкультуры [13].
Также предметом рассмотрения может послужить динамика обращения к метафорическим контейнерам в лингвокультуре, т. е. концептов, которые используют представители культуры в осмыслении других концептов. Удачной попыткой такого исследования можно считать изучение динамики функционирования контейнера «cost» (стоимость, стоить), что позволило выделить восемь категорий, ценность которых декларируется в роли эквивалентов денежных средств, позволяющих оценивать идеальные и материальные феномены в терминах объектов, относящихся к указанным категориям. Динамика функционирования исследуемого контейнера показала, что наибольшей значимостью он обладал в эпоху Просвещения, что можно объяснить тенденциями рационализации познания [16].
Понятие метафорического контейнера, позволяющее формализовать теорию концептуальной метафоры, обладает перспективой во многих отношениях, например, как параметр словарной единицы, определяющий ее семантическую валентность и способствующий ее аутентичному употреблению. Представляет интерес исследование ключевых метафорических контейнеров культуры. Считаем, что создание словаря культурных контейнеров может представлять интерес с точки зрения как изучения культуры, так и для процесса инкультурации.
Еще одним аспектом диахронического изучения концептуальной метафоры является сопоставление способов репрезентации концепта, которые могут отражать разные тенденции в осмыслении абстрактных сущностей. Например, сравнительное изучение концептуальных метафор, представленных во фразеологических единицах с репрезентантами концепта, и семантики дериватов слова «время» позволило выявить проникновение линейного восприятия времени в русскую лингвокультуру и его наложение на циклическую модель, что может свидетельствовать о следующих ее изменениях: эсхатологиза-ция мировосприятия и последующая дезаксио-логизация категории времени [14].
Думается, что указанные аспекты исследования осмысления ментальных сущностей в истории культуры далеко не исчерпывают весь потенциал изучения концептуальной метафоры, тем более что эта, с позволения сказать, «руда» лежит на поверхности и требует операций не по ее «извлечению», а, скорее, «переработке». Метафора, представляя один из основных механизмов языкового взаимодействия, может быть использована для раскрытия специфики адаптации культурных сообществ к окружающей среде и их интеграции в единое деятельностное целое. Обилие текстового исторического материала позволяет выявлять не случайные, а закономерные данные, раскрывающие идеальную составляющую культуры, и отойти от истории вещей к истории идей, показывая, как люди ушедших веков мыслили и поступали.
Список литературы Перспективы диахронического исследования метафоры в когнитивной историографии
- Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс//Теория метафоры. -М., 1990. -C. 5-32.
- Блэк М. Метафора//Теория метафоры. -М., 1990. -C. 153-172.
- Дэвидсон Д. Что означают метафоры//Теория метафоры. -М., 1990. -C. 173-193.
- Келлер Руди Языковые изменения. О невидимой руке в языке/пер. с нем. О. А. Костровой. -2-е изд. перераб. -Самара, 1997. -307 с.
- Линелл П. Два взгляда на природу языка: формальная лингвистика (с ее письменно-языковой предвзятостью) vs диалогическая лингвистика//Studia linguiustica cognitiva. Вып. 3: Когнитивная динамика в языковых взаимодействиях. -М.: ФЛИНТА, 2014. -270 с.
- Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. -480 с.
- Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. -М.: Прогресс. 1988. -C. 281-309.
- Ортега-и-Гассет X. Две великие метафоры//Теория метафоры. -М., 1990. -С. 68-81.
- Порус В. Метафора и рациональность//Высшее образование в России. -2005. -№ 1. -С. 134-141.
- Тарасова О. И. О сущности метафоры//Вестник Волгоград. гос. ун-та. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. -2010. -Т. 2, № 7-12. -С. 26-30.
- Уилрайт Ф. Метофора и реальность//Теория метафоры. -М., 1990. -C. 82-109.
- Федоров М. А. Образная составляющая концепта TIME: диахронический аспект. -Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. унта, 2013. -160 с.
- Федоров М. А. Бинарность репрезентации времени в русской культуре//Вестник Забайкальского государственного университета. -2013. -№ 08 (99). -С. 133-138.
- Федоров М. А. Крестьянское понимание времени: репрезентация концепта «время» в словаре В.И. Даля//Учен. зап. Петрозавод. гос. ун-та. -2014. -№ 3. -С. 55-59.
- Федоров М. А. Парадигма образного осмысления категории времени в эпоху просвещения в Англии//Вестник Брян. гос. ун-та. -2014. -№ 2: История. Право. Литературоведение. Языкознание. -С. 145-148
- Федоров М. А. Осмысление материальных и идеальных объектов в терминах стоимости в период с XVII по XIX век в британской лингвокультуре//Учен. зап. Орловск. гос. ун-та. -2014. -№ 5 (61). -С. 156-159
- Cassirer E. Language and Myth. New York. Dover Publ. Inc. 1946. 103 p.
- Encyclopedia of Environmental Change: Three Volume Set. Editor-in-Chief John A. Matthews. SAGE Publications Ltd; 1 ed. 2014. 1496 p.
- Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by, The University of Chicago Press, Chicago, 60637 The University of Chicago Press, Ltd. London, 2003. 276 p.
- Clair St., Robert N. Metaphor and the Foundations of The Second Generation of Cogntive (Linguistics Keynote Address, Linguistics Circle of San Antonio). Trinity University, San Antonio, Texas. 2002 . -URL: http://structural-communication.com/Articles/second-generation-cogsci-stcliar.html
- Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words New York Oxford. Oxford University Press, 1997. 317 p.
- Xygalatas D. On the Way Towards a Cognitive Historiography: Are We There Yet?. Equinox Publishing Ltd. 2015. P. 193200 . -URL: http://www.equinoxpub.com/journals/index.php/JCH/article/view/25885/pdf